— Спасибо, — сухо сказала она.
В тот понедельник, продолжал он, Мишель рано утром вернулся в Лондон, а Чарли, у которой репетиция предполагалась только во второй половине дня, осталась с разбитым сердцем в мотеле. Иосиф наспех набросал картину ее страданий.
— День мрачный, как похороны. По-прежнему льет дождь. Запомни погоду. Сначала ты так рыдаешь, что не в состоянии стоять на ногах. Ты валишься в еще теплую после него постель и выплакиваешь свое горе. Он обещал тебе на следующей неделе приехать в Йорк, но ты уверена, что никогда в жизни больше его не увидишь. Итак, что же ты делаешь? — И, не давая ей времени на ответ, продолжал: — Ты сидишь перед зеркалом у заставленного всякой ерундой туалетного столика, смотришь на следы, которые его руки оставили на твоем теле, на слезы, которые бегут по твоему лицу. Открываешь ящик и достаешь папку с почтовыми принадлежностями и шариковой ручкой, какими обычно снабжает своих постояльцев любой мотель. И пишешь ему. Рассказываешь про свое состояние. Исповедуешься в своих сокровенных мыслях. На пяти страницах. Первое из многих, многих писем, которые ты ему пошлешь. Написала бы? От отчаяния? Ты же любишь писать письма.
— Если бы я знала его адрес, написала бы.
— Он оставил тебе парижский адрес. — Иосиф вручил ей листок: табачная лавка на Монпарнасе. Для Мишеля — просьба передать. Фамилия не указана, да она и не нужна.
— В ту же ночь ты снова пишешь ему о своем горе из гостиницы «Звездная». Утром, не успев проснуться, опять пишешь. На самой разной бумаге, даже на обрывках. Пишешь на репетициях, в перерывах, в самое неподходящее время, пишешь страстно, бездумно, до конца откровенно. — Он взглянул на нее. — Ты это сделаешь? — переспросил он. — Ты действительно напишешь ему такие письма?
«Ну сколько раз можно заверять в одном и том же?» — подумала она. Но он уже пошел дальше.
Несмотря на все ее дурные предчувствия — о, радость из радостей! — Мишель приехал не только в Йорк, но и в Бристоль и более того — в Лондон, где они провели восхитительную ночь у Чарли в Кэмден-Тауне.
— И именно там, — со вздохом удовлетворения заключает Иосиф, словно завершая объяснение сложной математической проблемы, — в твоей квартире, на твоей кровати, среди клятв в вечной любви мы с тобой решили поехать отдохнуть в Грецию...
Они долго молчали, она вела машину и думала: «Вот мы и здесь. За какой-нибудь час езды перебрались из Ноттингема в Грецию!»
— Чтобы снова быть с Мишелем после Миконоса, — иронически заметила она.
— А почему бы и нет?
— После Миконоса, где был Ал и вся бражка, сменить декорацию, встретиться с Мишелем в Афинах, уехать с ним?
— Правильно.
— Ал исключается, — заявила она наконец. — Если бы у меня был ты, я бы не взяла Ала на Миконос. Я бы дала ему от ворот поворот. Спонсоры ведь его не приглашали. Он просто приклеился. К тому же сразу с двумя я никогда не шилась.
Он тут же отбросил ее возражения.
— Мишель верности себе никогда не требовал: он сам не такой, и такого ни от кого не ждет. Он — солдат, воюющий против твоего общества, человек, которого в любой момент могут арестовать. Между вашими свиданиями может пройти неделя, а может — и полгода. Ты что же, считаешь, он хочет, чтобы ты жила как монахиня? Вздыхала бы, устраивала истерики, делилась тайнами с подружками? Глупости все это. Ты бы спала с целой армией, если б он тебе велел.
Они проехали мимо часовни.
— Сбавь скорость, — приказал Иосиф и снова углубился в карту.
Вот так. Сбавь скорость. Стоп. Вылезай.
Он ускорил шаг. Они прошли мимо каких-то полуразрушенных сараев к заброшенной каменоломне на вершине холма, похожей на вулканический кратер. У входа в каменоломню стояла пустая банка из-под масла. Не говоря ни слова, Иосиф бросил в нее пригоршню мелких камушков, а Чарли смотрела и ничего не понимала. Потом он снял свой красный пиджак с металлическими пуговицами, свернул его и положил на землю. На талии у него в кожаной кобуре, пристегнутой к поясу, висел пистолет — рукоятка под правой подмышкой чуть перетягивала вниз. На левом плече висела вторая кобура, но пустая. Схватив Чарли за руку, он дернул ее вниз, и она села, скрестив ноги по-арабски, рядом с ним.
— Продолжаем. Итак, Ноттингем, и Йорк, и Бристоль, и Лондон остались позади. Сегодня — это сегодня, третий день нашего медового месяца в Греции; мы с тобой здесь, мы всю ночь предавались любви в нашей гостинице в Дельфах, рано встали, и Мишель просветил тебя, прочитав еще одну лекцию о колыбели твоей цивилизации. Ты вела машину, и я лишний раз убедился в том, о чем ты не раз говорила мне, а ты говорила, что любишь водить машину и для женщины водишь хорошо. И вот я привез тебя сюда, на вершину холма, но зачем, ты не знаешь. Я, как ты заметила, ушел в себя. Я о чем-то мрачно думаю — возможно, принимаю ответственное решение. Твои попытки узнать, о чем я думаю, меня только раздражают. Что происходит? — недоумеваешь ты. Наш роман развивается? Или ты вызвала чем-то мое раздражение? Я сажаю тебя здесь, рядом с собой, и вдруг вытаскиваю пистолет.
Она, будто зачарованная, смотрела, как он ловким движением вынул пистолет из кобуры, и тот стал словно продолжением его руки.
— Оказывая тебе великую и особую честь, я намерен познакомить тебя с историей этого пистолета и впервые, — он заговорил медленнее, подчеркивая каждое слово, — упомяну о моем брате, само существование которого — военная тайна, известная лишь немногим из самых преданных людей. Я делаю это потому, что люблю тебя, и потому... — Он умолк.
«И потому, что Мишель любит говорить про тайны», — подумала она, но промолчала, не желая ни за что на свете портить ему спектакль.
— ...потому, что сегодня хочу обратить тебя в нашу веру, завербовать в нашу подпольную организацию. Как часто — в своих многочисленных письмах и в минуты любви — ты умоляла дать тебе возможность доказать свою верность на деле! Сегодня мы делаем первый шаг на этом пути.
Она снова увидела, как легко, похоже, безо всяких усилий он превращается в араба. И она. словно завороженная. стала слушать его по-арабски витиеватую речь.
— На протяжении всей моей кочевой жизни, — а я вынужден был кочевать, став жертвой сионистских узурпаторов, — мой великий старший брат был для меня путеводной звездой. И за рекой Иордан, в нашем первом лагере, где я учился в школе, которая помещалась в сбитой из жести и полной блох лачуге. И в Сирии, куда мы бежали от иорданских солдат, преследовавших нас на танках. И в Ливане, где сионисты обстреливали нас с моря и бомбили с воздуха, а шииты помогали им. Среди всех выпавших на мою долю бедствий я всегда помнил о моем брате, великом герое, и больше всего на свете жаждал следовать его подвигам, о которых мне шепотом рассказывала моя любимая сестра Фатьма.
Теперь Иосиф уже не спрашивал, слушает ли она его.
— Я редко его вижу, а если вижу, то в большой тайне. Иногда в Дамаске. Иногда в Аммане. Он зовет: приезжай! И я провожу ночь возле него, впивая его слова, загипнотизированный благородством его души, ясностью мысли вождя, его доблестью. Однажды он вызвал меня в Бейрут. Он как раз вернулся с очень опасного задания, о котором мне известно только, что оно завершилось полной победой над фашистами. И предлагает мне пойти с ним послушать одного крупного политического деятеля из Ливии, человека поразительных ораторских способностей и умения убеждать. Такого красноречия я никогда в жизни не слыхал. Я и по сей день помню его речь. Всем угнетенным народам нашей планеты следовало бы послушать этого великого ливийца. — Пистолет лежал на его ладони. Иосиф протягивал его Чарли, хотел,' чтобы она попросила — дай подержать. — С сильно бьющимся сердцем мы вышли на рассвете из тайного убежища, где была лекция, и стали пробираться назад по Бейруту. Рука об руку, как обычно ходят арабы. У меня на глазах были слезы. Брат вдруг остановился и обнял меня — мы так и застыли на тротуаре. Я и сейчас чувствую касание его щеки. Он вынимает из кармана этот пистолет и вкладывает мне в руку. Вот так. — И, схватив Чарли за руку, Иосиф вложил в нее пистолет, но руки не выпустил и направил дуло на стену каменоломни. — «Подарок, — сказал он. — Чтобы мстить. Чтоб помочь освобождению нашего народа. Подарок бойца бойцу. С этим пистолетом я дал клятву на могиле нашего отца». Я просто дара слова лишился.
Прохладные пальцы Иосифа продолжали держать ее руку, и Чарли почувствовала, как задрожала ее рука. точно существовала сама по себе.
— Чарли, этот пистолет для меня священен. Я говорю тебе это, потому что люблю брата, люблю отца и люблю тебя. Через минуту я буду учить тебя стрелять, но сначала я хочу, чтобы ты поцеловала это оружие.
Она посмотрела на Иосифа, потом на пистолет. Его возбужденное лицо приказывало: «Ну же!» Обняв ее другой рукой за плечи, он заставил ее подняться.
— Мы любим друг друга, ты не забыла? Мы товарищи, мы служим революции. Наш дух и наше тело едины. Я истинный араб и люблю громкие слова и картинные жесты. Поцелуй пистолет.
— Не могу, Осси.
Она назвала его Осси, то есть Иосифом, и Иосиф ответил ей:
— Ты что, считаешь это английским чаепитием, Чарли? Думаешь, если Мишель — красивый мальчишка, значит, он играет в игрушки? Да откуда ему научиться играть, когда пистолет — это то, что делает его мужчиной!
Не сводя глаз с пистолета, она отрицательно покачала головой. Но ее сопротивление не вызвало у него злости.
— Послушай, Чарли, вчера вечером в постели ты спросила меня: «Мишель, а где идет война?» И помнишь, что я сделал? Я положил тебе руку на сердце и сказал: «Мы ведем джихад, и война идет здесь». Я твой учитель. Ты никогда еще не была до такой степени готова выполнить миссию. Знаешь, что такое джихад?
Она мотнула головой.
— Джихад— это те, чего ты искала, пока не встретила меня. Джихад— это священная война. Свой первый выстрел ты совершишь в нашем джихаде. Поцелуй пистолет.
Не сразу, но она прикоснулась губами к вороненой стали дула.
— Вот так, — сказал он и тотчас отступил от нее. — Отныне это оружие принадлежит нам обоим. Оно — наша честь, наше знамя. Ты в это веришь?
Да, Осси, верю. Да, Мишель, верю. Но только никогда больше не заставляй меня это делать. Она невольно провела запястьем по губам, словно они были в крови. Она ненавидела себя, ненавидела его, ей казалось, что она немного свихнулась.
— «Вальтер-ППК», — дошли до ее слуха слова Иосифа. — Не тяжелый. Запомни: любое ручное оружие должно отвечать трем требованиям — чтобы его легко было спрятать, нетрудно носить и легко стрелять. Это говорит тебе Мишель. Собственно, он лишь повторяет то, что говорил ему брат.
Став у Чарли за спиной, Иосиф развернул ее так, чтобы она оказалась перед целью. Потом обхватил ее кисть пальцами и, не давая согнуть руку, направил дуло пистолета между ее широко расставленных ног.
— Левая рука висит свободно. Вот так. — Он приподнял и отпустил ее левую руку. — Глаза открыты. Медленно поднимаешь пистолет, пока он не окажется на одном уровне с целью. Руку с пистолетом держишь прямо. Вот так. Когда я скомандую «огонь», выстрелишь дважды. А пока опусти руку, жди.
Она покорно опустила руку с пистолетом, дулом в землю. Он скомандовал «огонь», она вскинула руку, как он велел, нажала на курок, но ничего не произошло.
— Еще раз, — сказал он и снял защелку с предохранителя.
Она проделала все так же, как и в первый раз, и пистолет дернулся у нее в руке, будто в него самого попала пуля. Она выстрелила вторично, и сердце ее забилось от возбуждения, схожего с тем, какое она чувствовала, когда впервые преодолела на лошади барьер или плавала нагишом в море. Она опустила пистолет; Иосиф снова отдал приказ, она гораздо быстрее вскинула руку и выстрелила дважды, быстро, один выстрел за другим. Потом стала стрелять уже без команды и стреляла, пока не израсходовала всех патронов, а тогда застыла, опустив пистолет, чувствуя, как бьется сердце, и вдыхая запахи тмина и пороха.
— Ну как? — спросила она, повернувшись к нему.
— Посмотри сама.
Она подбежала к банке из-под масла. И уставилась на нее неверящими глазами, потому что в банке не было ни единого отверстия.
— Почему так получилось? — возмутилась она.
— Прежде всего тебе не следовало держать пистолет одной рукой. Для женщины весом в сто десять фунтов, да еще с тонюсенькими запястьями, это — непосильная тяжесть.
— Тогда почему же ты не сказал мне, чтобы я держала пистолет двумя руками?
— Потому что, если тебя учит Мишель, ты должна стрелять, как он. А он держит пистолет одной рукой. Так стреляет и его брат. Ты что, хочешь, чтобы на тебе стояло клеймо «Сделано в Израиле»?
— Но почему же он не знает, как надо стрелять? — рассердилась она и схватила его за руку, — Почему он этого не знает? Почему никто не научил его?
— Я же сказал тебе: его учил брат.
— Тогда почему брат не научил его как надо?
Она требовала ответа. Она была унижена и готова устроить сцену, — почувствовав это, он капитулировал.
— Он говорит: «Господь повелел, чтобы Халиль стрелял одной рукой».
— Почему?
Иосиф пожал плечами, оставив ее вопрос без ответа. Они вернулись к машине.
— Брата зовут Халиль?
— Да.
— Значит, Халиль, — сказала она.
— Халиль, — подтвердил он. — Запомни. Как и то, в какой момент его имя было названо. Потому что Мишель любит тебя. Потому что он любит своего брата. Потому что ты поцеловала пистолет его брата и тем самым породнилась с ним.
Они стали спускаться с холма — машину вел Иосиф. Она ничего не понимала. Грохот собственных выстрелов все еще звучал в ее ушах. Она чувствовала на губах вкус стали, и когда он указал ей на Олимп, она увидела лишь черно-белые тучи, похожие на атомное облако. Озабоченный не меньше ее, но преследуя свою цель, Иосиф продолжал свой рассказ, нагромождая детали.
Она старалась не спать — ради него, но это оказалось выше ее сил. Тогда она положила голову ему на плечо и на какое-то время забылась.
Отель в Салониках был допотопной громадой в стиле короля Эдуарда. Их номер с альковом для детей, ванной в двадцать квадратных футов и обшарпанной мебелью двадцатых годов — совсем как у нее дома — находился на самом верхнем этаже. Чарли включила свет, но Иосиф велел его выключить. Им принесли заказанную еду, однако они к ней не притронулись. Он стоял у окна эркера и смотрел на лужайку перед отелем и залитую лунным светом набережную за ней. Чарли сидела на кровати. С улицы время от времени доносилась греческая музыка.
— Итак, Чарли...
— Итак, Чарли, — тихо повторила она в ожидании продолжения, которое неминуемо должно было последовать.
— Ты дала клятву принять .участие в моей борьбе. Но в какой борьбе? Как она ведется? Где? Я уже объяснил тебе, во имя чего мы боремся, объяснил тактику; я сказал: мы верим и потому действуем. Я сказал, что террор — это театр и что порой надо потянуть мир за уши, чтобы он услышал голос справедливости.
Чарли беспокойно заерзала.


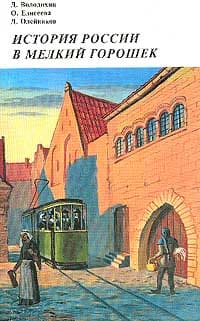

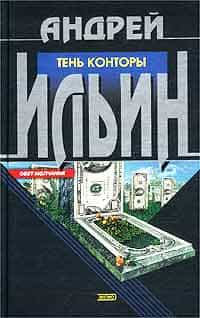
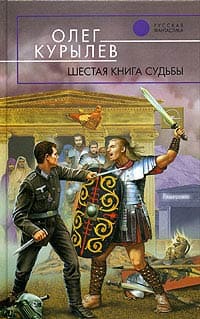
 Грабб Джеф
Грабб Джеф Корнев Павел
Корнев Павел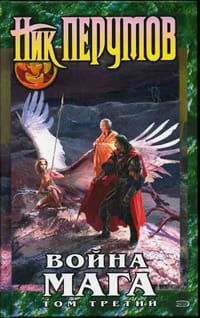 Перумов Ник
Перумов Ник Самойлова Елена
Самойлова Елена Шилова Юлия
Шилова Юлия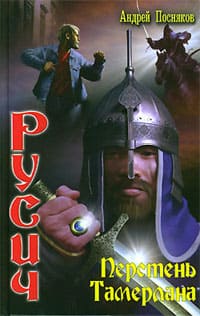 Посняков Андрей
Посняков Андрей