полк желтушных и таких, которых не подымал уж в строй нашатырь. Но сила
терпения Матюшина или здоровье были сильней желтухи, сильней солнечного
пекла. От мучений своих он расхотел есть и жевал только хлебную пайку, по
три ломтя хлеба в день, но и голодал без обмороков, будто б здоровея. Ничто
его не брало.
лагеря. Матюшин отстал, как ни старался. Сержанты развернули убежавший
далеко вперед взвод и погнали всех обратно, к Матюшину - и стоило тому
отстать опять метров на сто, все повторялось. Солдаты волочатся, строй
стонет да хрипит, но никто на Матюшина не смеет взглянуть, хоть он чувствует
их душевный гремучий гул, ударяясь больно об их залитые потом, грязные немые
лица, об их глухие, горбами вздувшиеся спины. Матюшину казалось, что он
быстро бежит, он в том себя убеждал и, убеждая, даже к себе вдруг
ожесточился, как если б жестокость к себе была вторым дыханием, давала из
ниоткуда силу. Но, по правде, он чуть тащился, шатаясь из стороны в сторону,
наваливаясь на чьи-то спины, прячась в этой куче выдохшихся, измученных
людей, которые были все же сильней его, потому что еще могли бежать, - и
бежали, бежали... И он вдруг их возненавидел. Ему почудилось уже, что это
есть их молчаливый сговор - что они надрываются, чтобы бежать, и так ему
мстят. А ему нельзя было остаться одному или хоть позади всех, только бы со
всеми. Свои же, измучившись, стали на него материться и орать, хоть он
ничего не мог с ногами поделать. Это веселило сержантов. Матюшин терпел,
понимал, что бегают по кругу из-за него, но вдруг какая-то неведомая сила
все в нем перевернула. Это случилось, когда один сержант, которому надоело
веселиться, бросился пинать его по неповоротливым ногам.
паренька, - со всей силой, даже и неведомой ему, но данной от природы на
такой случай, чтобы мог он калечить, а то и убивать. Сержант взлетел и
грохнулся наземь, с пронзительным ором катаясь в пыли, сжимая то ли голову,
то ли рот. К нему кинулись свои. Матюшину показалось в тот миг, что сделал
он что-то страшное и непоправимое, будто и вправду убил человека. Но забыл
он, что это был сержант. Не понимал, что нарушил бесповоротно, страшно
другой закон, вовсе и не человеческий, а всей этой толпы, - он ударил
сержанта, смел поднять на одного из них руку.
подняли, повели в лагерь - говорить он не мог, только орал от боли. Было
понятно, что Матюшин его изувечил, но начать с ним расправу перед всем
строем, перед толпой свидетелей, они все же не могли, да и не сознавали еще,
каким способом расправятся. Матюшину только и приказали, что встать в строй.
Опять раздалась команда бежать, как если б докончить решили зарядку. Но
сержанты, замыкавшие, погнали взвод сапогами, так что задние напирали на
передних, гнали уж их сами, чтоб не быть битыми. И теперь-то не бежали, а
гнались. Матюшин понял, что с ним делают, - его гнали всем взводом, такие
же, как он сам, с отчаянием давя кулаками в спину, уже не расступаясь.
Сержанты не уставали. В самую страшную минуту, когда почудилось, что
сорвется и упадет, Матюшин вдруг ощутил, как с боков кто-то не дает ему
упасть и, сколько есть сил, помогает, удерживает. Это был Ребров, молчком,
сцепив зубы, тащивший его вперед, и еще один, кого он не помнил и не знал,
маленький рыжий солдатик, который сдерживал собой, как мог, натиск тех, что
напирали, битые сержантами. Матюшин держался, но потом у них уж не осталось
сил его тянуть, и он сорвался, поплелся в хвосте взвода, где его футболили
по ногам уже до самого лагеря.
и весь день на плацу Матюшин чувствовал кругом себя глухую стену. Свои
боялись его, сторонились, а сержанты, как сговорясь, не глядели в его
сторону. Молдаван командовал, спокойно расхаживая по плацу, и казался
уверенней обычного. Но весь лагерь знал, что полусолдатишка ударил сержанта,
да не просто ударил, а изувечил.
командир учебной роты, и он под молчаливым конвоем Молдавана приковылял в
офицерскую палатку. Офицеры жили в Дорбазе не в фанерном бараке, а отдельно,
в палатках. Матюшин увидал под сумрачным палаточным сводом незаправленные
койки, жадно - заваленный живчиками объедков стол. Сумрак голодно дышал
перегаром. Командир валялся на койке как есть, в сапогах, спасался от жары.
Еще один офицер, не разглядеть, кто такой, дрых в своем углу, беспробудный.
Молдаван уселся на пустую свободную койку, не спрашиваясь, а Матюшин остался
одиноко стоять.
него с койки. - А ты знаешь, что тут делают с теми, кому сил некуда девать?
Я к тебе обращаюсь, товарищ солдат, отвечать!
тебе роту доверил, а ты куда смотришь?
что думай, если что, шкуру спущу, пропадай - ты мне без разницы.
хватит.
зону зароешься, уразумел? И орлу своему разъясни, куда все дороги ведут,
завтра им подробней займусь, буду карать!
огладился, подтянулся. Приказал Матюшину шагать вперед, в нужник. Сараюшка
глинобитная горбилась на отшибе, далеко за бараками, такая же серая и
сохлая, что и степь. Матюшин помнил только громкое жужжание мух, которых
было будто пчел в улье. Молдаван крепко налег на него грудью, придавил к
стене, но не ударил, а сказал сильным шепотом:
таких много, хорошо живут. Им хавать хорошо дают. Если мне глянешься, то
другим не отдам, мой будешь. - И отшагнул, встал грозно над очком,
облегчился, вперед приказал шагать.
вынес Молдаван. Они-то и пялились хитро, покрикивали кому не лень:
ним сделать.
пугают смертью, грозятся этой ночью не иначе как убить. Но мысль, что могут
убить, не страшила, а теплилась, была теплой. Ему думалось в бреду, что если
Молдаван его убьет, то потом убьют за это Молдавана - это он, Матюшин, для
того и родился, чтобы убить его.
доживал день в голодном ожидании вечерней поверки, помня съеденную за ужином
пайку, а не о долгой грядущей ночи. Неизвестно откуда взявшийся, подле него
присел на скамейку Ребров и, как бывалый, сквозь зубы покуривал сторонкой
добытую где-то целиковую сигарету. Он ничего не обсуждал, молчал, будто и
чужой, что было по-своему правдой, потому как с самого поезда Матюшин
отшатнулся от него. Хоть земляки, чуждались они друг друга и в лагере. Будто
потерялись, но этим утром нашлись.
Говорил же, держись меня, а ты без меня захотел, теперь прости-прощай, -
цедил, оглядываясь, Ребров. - Еще есть время, рви из лагеря...
Очнулся он от кромешной боли. В холодной, где тарахтел ящичек кондиционера,
комнатушке, залитой желтушным светом голой лампочки, в медпункте. Он вжат
был в кушетку, лицом - в потолок, военврач тужился стянуть с разбухшей ноги
сапог.
резать надо сапог... Что у нас есть режущего?
делать больше нечего, зверье!
обоссал - косит, сука, в больничку захотелося, масло хавать.
мотать!
дремоту:
дурак, найди там в сторонке место.
хотелось им, заорал. Койки кругом заскрипели, шевелились в них, ожили
какие-то туловища.
Ни дня им, ни ночи, желтушникам!
мать! Лечь! Встать!
сапог, отдал команду в гробовую темноту:
наведаем... - было слышно Матюшину в черной своей дыре.



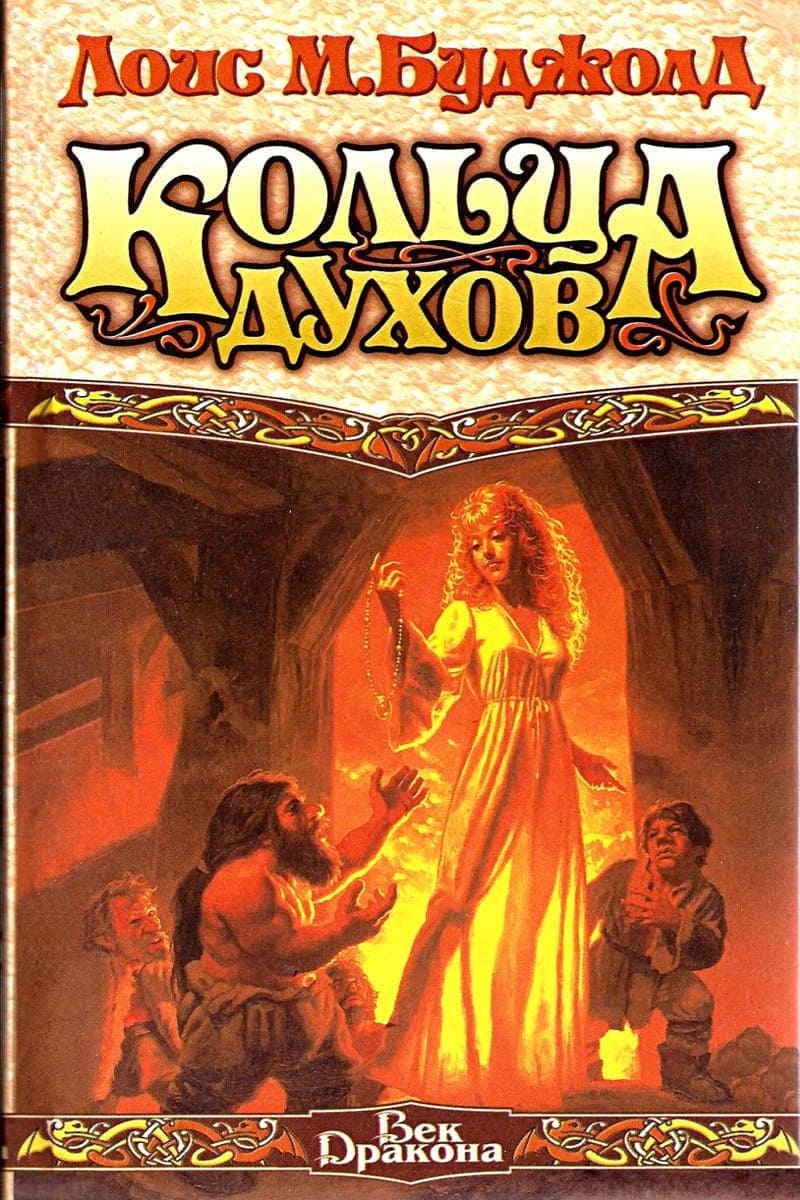

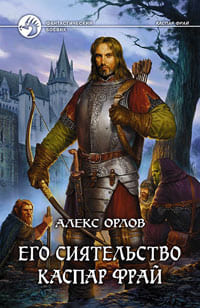
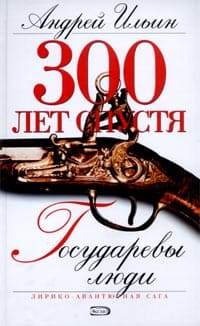 Ильин Андрей
Ильин Андрей Березин Федор
Березин Федор Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна Каменистый Артем
Каменистый Артем Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей