убрались. И ждал. Дышала, затаясь, мгла, покуда не явилась в ней
стеклянистая прозрачность, - тогда, не отыскивая этих двух, Матюшин заплакал
от беспомощности, что бросили одного на голом полу, далеко от облачков коек.
Но слез его не слышали, и некому было его спасти. Чудилось, что голо чернеет
ночь, а не доски пола. Облачка таяли, таяли... Он сполз с носилок и, волоча
бездвижные ноги, не ведая, что делает, забился под одну из коек, как в щель,
и там затих.
шепотки. Верно, так они с перепоя и не взяли в толк, что с ним сделалось,
куда он исчез, а шмонать да шум поднимать вышло им не с руки. Утром же
Матюшина искали по всему лагерю, потому что приехала за грузом скоропомощная
машина из медсанчасти, а его не отыскивалось, будто пустился в бега. Но
понятно было, что уйти такой далеко не может, разве уползти. Зубник
допытался у медбрата, что ночью солдатика навещали, а потом выбил правду и о
том, кто ж его навещал. Машина стояла, не отправлялась. Молдавана и еще
троих сержантов вызвали в палатку, где офицеры, очнувшись от пьянки да
обозлившись, лупили их нещадно до потери сознания, чтобы сказали правду, что
сделали они ночью с солдатом, - могли ведь убить и зарыть. Молдаван
крепился, хоть его-то и гнули, ломали офицеры, не боясь даже, что сдохнет.
Сержантики дрогнули, не выдержали и порассказали о Молдаване, что творил он
с людишками. Так что в горячке того утра открылись колодцы темные правды,
начали допрашивать всех солдатиков, все сержантье, не выпуская Молдавана из
палатки на свободу, - и народец, не видя больше его, сознавался.
когда обнаружился Матюшин, то начальникам уж не было до него дела -
выволокли, свалили на носилки, погрузили в машину.
сержантом, и легли они бок о бок. Неслась машина по разухабистой степи, и
мучились они в трясущемся, ходившем ходуном кузове. Матюшин стонал. А
сержант, которому невозможно было стонать, шевельнуть челюстью, глухо ныл,
цепляясь за носилки. С него ручьился пот, он изнемог от боли, задыхался.
Прибыли они в полк стремительно. Матюшина отгрузили в лазарет, и в носилки
кинули вспоротые, похожие на жабу болотную сапоги - и сидели те жабы у него
на груди, стерегли до самой приемки. Сержанта выгрузили, с ним дело было
потяжелей, везли его дальше, куда-то в госпиталь.
сказали скинуть с себя всю эту грязь; сам обтер себя, замшелое чужое тело,
смоченным под краном полотенцем, как сказал сделать медбрат. Он отвык, чтобы
люди так говорили, с покоем в голосе, и эти покойные ленивые голоса будто
спускались с неба. Он слышал, как о нем говорил добренький военврач:
взяли в армию человека, а портянки не научили мотать... Ведь не похоже,
чтобы он мостырил, как на ваш взгляд, Верочка?
головой, так что все кружилось в глазах и плыло. Каталку везли два солдата,
лица их не запомнил. Но осталось в памяти, что эти его не материли. Что было
им легко, будто забавлялись, катить его на колесиках, рулить.
в то время капали ему взаймы из бутылька кровь, удобряли уколами со сладкой
водичкой. И спал-то он сладко, таял кусочком сахара, и растекалась по жилам
ничейная кровушка. Но ночью, когда день напролет проспал, будто чувствовал,
что ночь настала, вкралось накрепко вбитое ожидание окрика. Дремотно он
изготовился вскочить, пробуждался, себе отчета не отдавая, что лежит не в
казарме, а в лазарете.
военврачей. Матюшину выдали костыли, приказали вставать. Ноги были
забинтованы по колени, будто обули в белые валенки. Стоять на костылях
давалось тяжело. Первое, что сделать сказали, - сдать на анализ мочу.
Медбрат выдал ему майонезную баночку без крышки. Впихнув ее в карман халата,
Матюшин поковылял в нужник. Силился справиться с банкой, да никак это не
выходило у него. Все, что смог, - сдернуть трусы, а подставить банку - на
это не хватало рук, выскальзывали из-под мышки костыли. Он поставил банку на
подоконник, подковылял к параше железной, потому что и терпеть-то после
возни этой не хватало у него сил. В нужник забежал какой-то облегчиться,
опущенный с виду, бритый, как в издевку, лесенкой. Матюшин пролаял хрипло,
держа в руке банку, точно камень:
теперь донести мочу эту чужую до медбрата, она пролилась в кармане, покуда
он скакал да тащился, и медбрат не смолчал, видя мокрое пятно у него на
боку:
строем, лазаретный старшина - важный усатый солдат, ничем не больной, а как
раз самый упитанный, здоровый. Все звали его кто "бугром", кто "бригадиром",
как на стройке. Он всем давал работу, сказал и Матюшину, не глядя, что тот
на костылях, дорожки выметать в саду. Матюшин тут же в строю отказался это
делать. Подумал, что бригадир над ним потешается. Тот подошел к нему и
ударил по одной, потом по другой щеке наотмашь, а Матюшин и руки поднять не
мог, от костылей оторваться, чтоб хоть укрыться. И хлестал его бригадир по
щекам, покуда не вступился соседний паренек - заслонил Матюшина собой,
упросил усатого, что возьмет работу на себя.
теперь смолчал, хоть и не понимал, как сможет держаться на костылях и
работать метлой. Дорожки обсыпала сгоревшая под солнцем листва со скалистых,
возвышающихся яблонь. Чтобы мести, надо было не иначе как встать на ноги или
хоть на одну опереться, и он, обозлившись уж не на бригадира, а на себя
самого, на поганые костыли, оставил себе один костыль, взял в свободную руку
метлу. Управляться одной рукой было все одно что ковыряться метлой, но
потихоньку да полегоньку листву он с первой дорожки смахнул.
лазарета. Выписали одного, который долго здесь жил, работал посудомойкой. Он
был приметный, задиристый, о таких тут говорили, как на зоне, что он
блатует. При котлах он, верно, и отъелся, вольный стал, а когда шикнул
бригадир, что приказал начмед манатки собрать и шагать в роту, то весь он
превратился на глазах в жалкий комок. В обед еще было видно его вспухшую,
багровую рожу в окошке раздатки, но это не понравилось бригадиру - что еще
не ушел. Он спокойно отобедал и другим дал свое доесть, а потом зашел в ту
укромную полутемную комнатушку, в которой работали повар с посудомойкой, - и
все услышали грохот и истошные крики. Но смертоубийства миг тоскливо
покрылся только что взъярившейся грызней, стали доноситься шумы и пыхтение,
будто двигают что-то тяжелое. Все дожидались, не расходясь, чья возьмет,
никто не встревал. Минут через десять возня в пищеблоке смолкла. Из тишины
явился целый и невредимый усач, волоча по полу задыхавшегося, будто
пробитого гвоздями, скрюченного посудомойку.
просили? Ты решил, что ты умней? - допрашивал его, свирепея от своих же
слов, бригадир.
никому не важного своячка.
его уж не стало слышно.
Но этого и невозможно было Матюшину постичь. Зачем они нужны ему такие,
здоровые, он теперь, когда отнимали у него костыльки, не понимал. Здоровый,
а не скрюченный, на костылях, Матюшин казался сам себе ненужным, обреченным.
Было ему так одиноко, будто войдет в перевязочную кто-то, какой-то человек,
который его отсюда навсегда прогонит. Всю эту неделю он работал - подметал
дорожку в саду, дежурил на людском нижнем этаже, был на побегушках у врачей,
таскал по зову лекарства да бумажки. После перевязки, когда сняли бинты,
отобрали костыли, он ушел на этаж и затаился, не зная, что с ним теперь
будет. Бригадир разгуливал по этажу, не замечая его, и Матюшин мучительно
гадал, есть ли приказ выписывать его, что скажет начмед. Но вечером усатый
подозвал его, добрый, что прожил в покое еще один день, и дал работу:
что человека дам, а ты вроде без костылей стал, ходячий, но гляди у меня,
заблатуешь - враз на берег спишу! И плакала мама!
порог хозблока, заставляя стоять средь пустых столов. Этот худенький узбек,
походивший на подростка эдак лет четырнадцати, казался безвредной змейкой,
ползающей, но не могущей жалить. Снизойдя, он впустил Матюшина, сказал сесть
и сунул ему в руки миску с кусками холодной свинины, выуженной, верно, из
щей обеденных, рубанул полбуханки хлеба. Так он показал, что он добрый, если
захочет, и жратвы ему не жалко. Есть же Матюшин не хотел, но стал
волей-неволей жевать, больше оглядываясь вокруг. Узбечонок был доволен им,
думая, что приручил. Он же был Матюшину по грудь, и, только когда Матюшин
сидел, они становились одного роста. Хозблок был изнутри именно каким-то
блоком - квадратура, обложенная от пола до потолка водянистым кафелем, будто
по стенам стекала вода. Здесь было как в бане, а воздух стеклянисто стоял у
распахнутого настежь оконца, так что внутрь проникал только жаркий солнечный
свет. Узбеку жара была нипочем. Решив, что служке хватит жрать, он показал,
какой может быть злой, и, выхватив ни с того ни с сего из рук у него миску,
тявкнул, ощерясь, чтобы становился у раковины.
алюминиевой посудой. Узбечонок подпрыгнул, уселся на высокий подоконник,



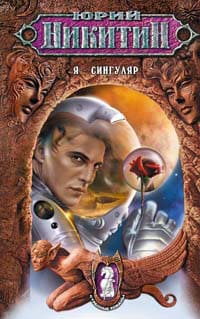

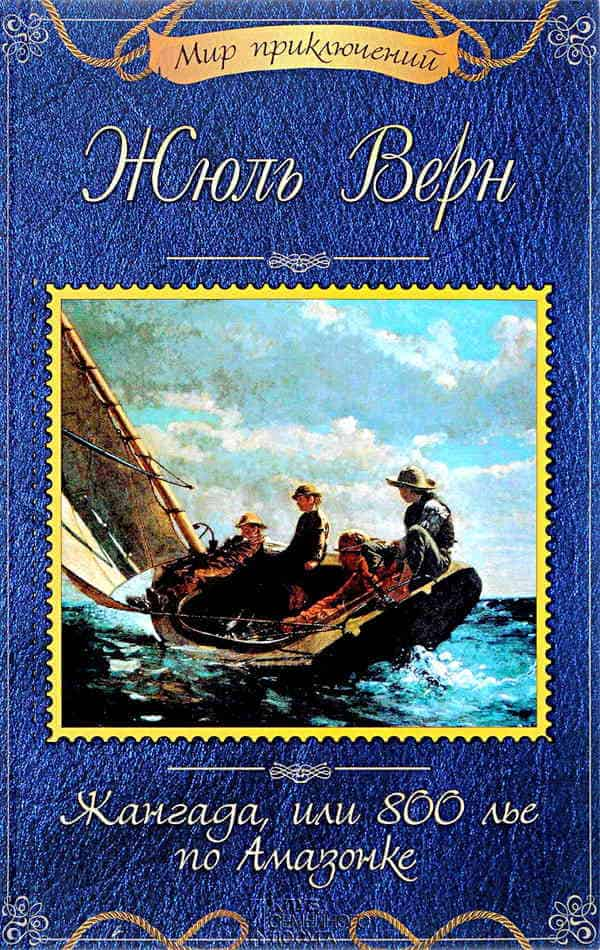
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Посняков Андрей
Посняков Андрей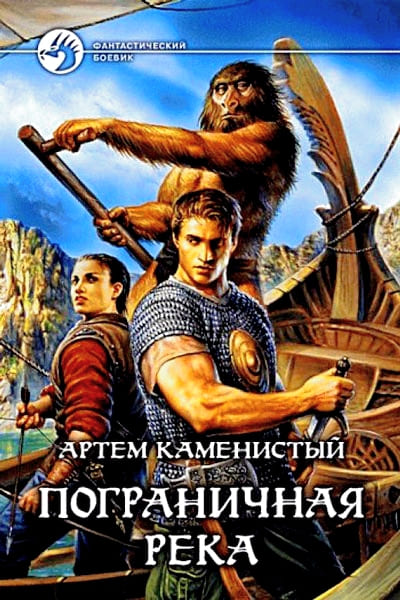 Каменистый Артем
Каменистый Артем Максимов Альберт
Максимов Альберт Акунин Борис
Акунин Борис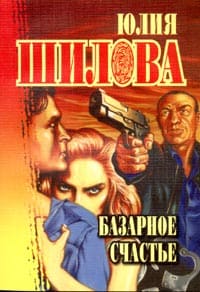 Шилова Юлия
Шилова Юлия