в его стенах, и Матюшин больше не чувствовал себя человеком - да и никем. С
бездушным спокойствием он воротился в хозблок, где ему, но будто и не ему,
сделалось вдруг весело при виде всего этого брошенного хозяйства - немытых
котлов, бачков, тусклых алюминиевых черепков мисок, сваленных горой в чане
заодно с грудой обглоданных, таких же тусклых ложек. Взялся он хватать их,
рыться в них, мыть да вычищать, но проникая в работу, как проникают
по-крысячьи что-то чужое пограбить. Исполнив на отлично работу, покатился с
тележкой за обедом, ничего не узнавая в полку, забывая этот полк каждую
минуту и чему-то удивляясь затухающей памятью.
хлеборезку, отмалчивался с Вахидом, пронзая взглядом этого узбека, насквозь
чужеродного, отчетливо понимая, будто держал камень увесистый в руках, что
хлеборез нажрался хлеба с маслом, а кругом него недоедают этого масла. Он
глядел молчком на Вахида, почти как на свинью, точно узбек могучий не стоял
вровень с ним, заслоняя собой хлеборезку, а возлежал с хрюканьем среди
хлеба. Вахид же встретил братишку с простодушной радостью, наделил не спеша
хлебным пайком лазарет и, ничего не приметив, обнялся с Матюшиным до
следующего раза, но братался узбек с беспризорной тенью, что гуляла как на
свободе в ташкентском полку.
хозблока. Силой какой-то вытолкнуло его на опустевший, стихший без солдатни
двор, и он забрел в сад, за огородку глухую кустов, где стемнела на глазах
его в тени яблонь и прохладно вечерела поросшая густо травой земля. Шагов
через десять, пройдя как по доске, а не по траве, он уткнулся в стену из
бетона. Сад еще взлетал над ней зелено вольными ветвями и рос как над
обрывом, но стеной тут обрывался не дворик, не садик, а неведомый конвойный
ташкентский полк. У той стены, так как шагать стало некуда, он слег на траву
и в прохладе, в тенистом сумраке уснул.
лазарета только повар. Он не дождался его в хозблоке, а взявшись искать - не
отыскал. Тогда, с полдня, начал он скрывать, молчать, зная, что русский
пропал. Тащил сам работу. Поехал вечером с тележкой. Доканчивал день, наводя
сверкающий порядок отупело в хозблоке, как после убийства. Никуда больше из
хозблока не выходил. Каптерщик, а он вторые сутки чуждался посудомойки,
будто за ними кто-то следил, но и стерег его пугливо, имел в виду, успел
углядеть работающего, на себя не похожего повара, и заподозрил. После ужина
пробрался он в хозблок, обнаружил одинокого узбечонка и, так как тот молчал,
принялся выбивать из него правду. Но стало от битья страшней, и узбечонок
молчал страшно, бездвижней и равнодушней трупа. Каптерщик, будто себя
допытавший, забивший, готов был чуть не бежать и сдаваться, так страшно
сделалось ему при мысли кромешной, что узбек не иначе убил посудомойку и
молчит.
ниоткуда бесшумно и шагнул в мерцающий от кафеля хозблок. Сел в закуток у
стены, не произнеся и слова. Узбечонок глядел на него горящими темным
каким-то огнем, но лучистыми, устремленными только к нему глазами, а
каптерщик облился багрово потом, как в парилке, и заорал, испуская в немощи
злость. Вопли его возмущения, обиды, боли этих двух мертвяков не пробудили.
Повар с посудомойкой как сдохли, ничего больше не боялись. Не слышали.
ты, ну чего ты дохнешь, куда ты ходишь? Кончить нас хочешь, невмоготу стало,
а я жить хочу! Жить! - Весь вид его, дрожащий, мокрый, будто выпрашивал в
слезах и в поту, в мокроте человечьей, эту самую жизнь, кричал не страхом, а
неимоверной какой-то к себе любовью. А страшным было ему теперь узнавать,
как ребенку, что может его не быть.
И, найдя неожиданно отгадку, поверив с облегчением, что сидят в хозблоке и
молчат, обкуренные анашой, утих он и скривился, будто разжевал что-то
кислое. Еще поразглядывал их от безделья, как картинки, помучился и ушел.
Ничего так не желал им каптерщик, как смерти. Уходя восвояси, он подумал уже
с похотливым трепетом, что надо их отравить, как-нибудь сгубить. И он не так
желал им смерти, как жаждал избавиться от мучений страха за свою жизнь,
чтобы стало ему возможно одного себя беречь, спасать, и уж он тешился, что
вылез бы в одиночку из какой ни на есть ямы. Наркоманы, падаль, думалось
успокоительно каптерщику, все одно долго не проживут, да от них, от
заразных, давно надо землю освобождать
возвратившегося неизвестно откуда посудомойку, что-то понимая и чувствуя,
пытался он теперь стерпеть и мучился в своем уголке, никому не нужный.
Матюшин же чего-то дожидался, хмурился и не глядел в его сторону, но вдруг
поднялся стремительно, будто изнемог ждать, и двинулся без страха к железной
гробовитой плите, из-под днища которой вырвал крепенький невзрачный пакет с
травой. Понимая, что делает, он успокоился, огляделся и вытряхнул пакет в
полный помоев обрыдлый бачок, попавшийся на глаза, а потом смешал навсегда
сухенькую нежную соломку с той болотной жижей и отпрянул, встал столбом
подле узбечонка. Повар тихонько на глазах усыплялся, сжимаясь тепловато в
комок, как если бы трава эта утопла не в объедках да опитках, а в его
душонке, и бродила. Ржавый, порыжевший от затхлости пакетик прилепился
эдакой слизью к полу, он только казался ничейным; как и ветерок этот гиблый,
легкий - только казалось, что таился в нем, в невзрачном пакетике под
плитой, а гулял теперь одинешенек посреди ночи в гулких стенах хозблока.
Глядя вниз, в пол, где лежал повар, и ясно видя, как с высоты, его покойное
гладкое лицо, ощутил и Матюшин дрожь легкую погибели. Но гула одинокого,
будто гудели, приближались и приближались чьи-то тяжелые шаги, топали и
топали кирзовые убойные сапоги, Матюшин не страшился. Успел он столько бед
на свою голову накликать, что и чудно было б пропасть. Потому не от
безысходности очевидной того, что совершил, а от невероятности Матюшин будто
разуверился в смерти, в жизни, опустился к дышащему трупику узбечонка и
уснул, обнявшись с ним безмолвно, как с братом. Желтый грязный свет горел до
утра в хозблоке, сочась бесшумно с потолка и удушая, будто газ. Матюшин
просыпался в поту, открывал глаза, видел одиноко кругом этот свет, ничего не
постигал, но засыпал с удивлением, чувствуя под боком твердый ком
человеческого тепла.
и светлом воздухе. Свежеумытый, с еще мокрыми зализанными волосами, но
бескровный, как выжатый.
блестело. Больше тебя тут не будет. Шевелись, машина там подкатила... Ну,
твое счастье, а то б накормил!
кормежку - содрал и сгреб в охапку свинцовой серости бельишко. Каптерщик
встретил их свеженький и такой же зализанный, но с порога отказался
признавать, важничал.
мне чтоб сразу был, и барахло пускай забирает.
будет. Ты решил, сучара, ты умней?
Матюшин же, блуждая по лазарету под его конвоем, облился водой вареной из
душа, нарядился в прокисшую старую гимнастерку, штаны, от которых отвык; и
вышли они на жаркое пыльное крыльцо, распахнутое со всех сторон солнцем.
загораживай... - Окликнул другого, тоже карантинщика, который стоял
неподалеку, как новенький, и прощался отчего-то с лазаретными: - Эй, боец,
как там тебя, желтушный, окончена свиданка, за мной! - И крикнул оставшимся,
сходя вразвалочку с крыльца: - Если чего, искать будут, скажите, ушел в
штаб!
Вспоротые в Дорбазе военмедом голенища он зашил еще в прошлые дни, когда -
не помнил, будто во сне. Сапоги, с рубцом уродским из бечевы, походили на
что-то раненое, живое. Точно б выскакивая, по-жабьи выпрыгивая из-под земли,
лезли они в глаза и заплетали каждый шаг, тошно кружили голову.
бригадир с желтушником вдруг растворились. Он стоял столбом у этого,
похожего на школу, пустопорожнего здания, покуда не услышал, что кричат его
фамилию, и только тогда приметил горстку солдат, развалившихся у штаба на
скамейке, как придавленных его тенью.
приблатненного вида солдат, которого он и не узнавал.
Зазнался, что ли?
довольный собой желтушник. - Мы на полах умирали, а он в столовке, обеды там
разогревал.
дурак. Верно говорю, братва? Я вот в госпитале ничего, тоже не умирал. - И
по этой ухмылочке, чуть затаенной, себе на уме, Матюшин вдруг разглядел в
нем какого-то состарившегося Реброва. - Вот и свиделись... Как знал, что
вместе служить будем, а ты правда не дурак, здорово от Молдавана-то
сбежал... А сапоги-то, сапоги у тебя, ну и сапожки!


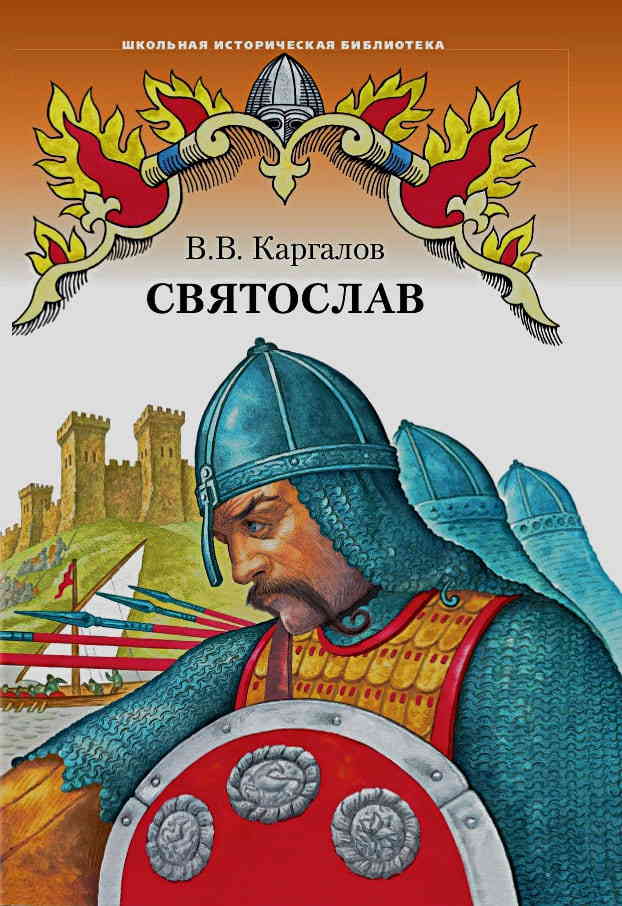

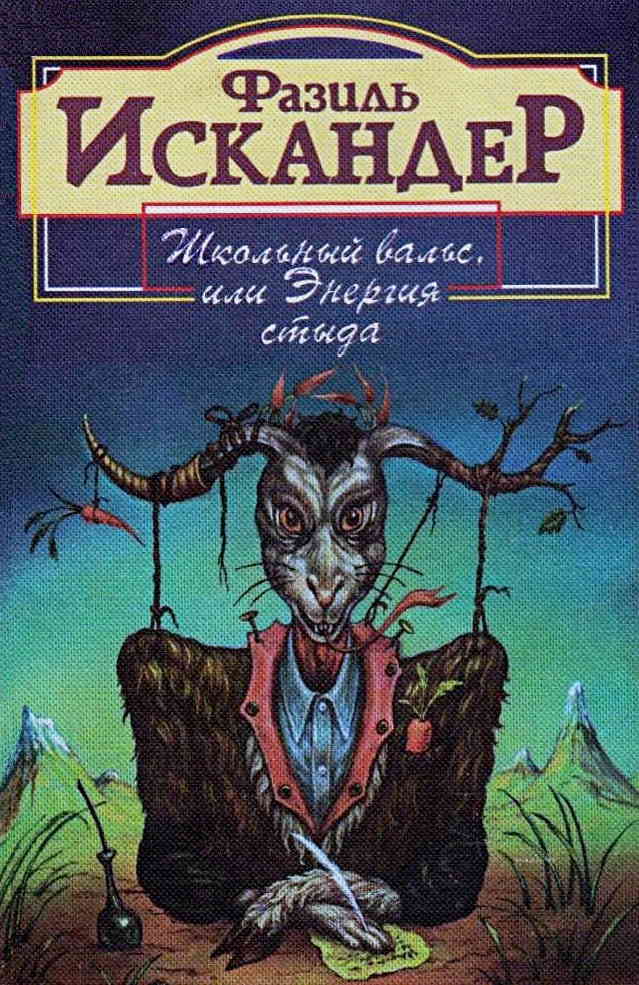

 Панов Вадим
Панов Вадим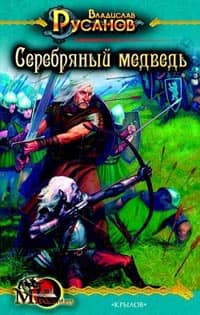 Русанов Владислав
Русанов Владислав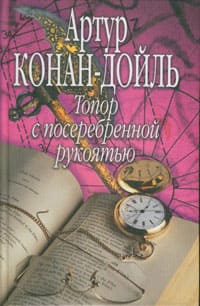 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур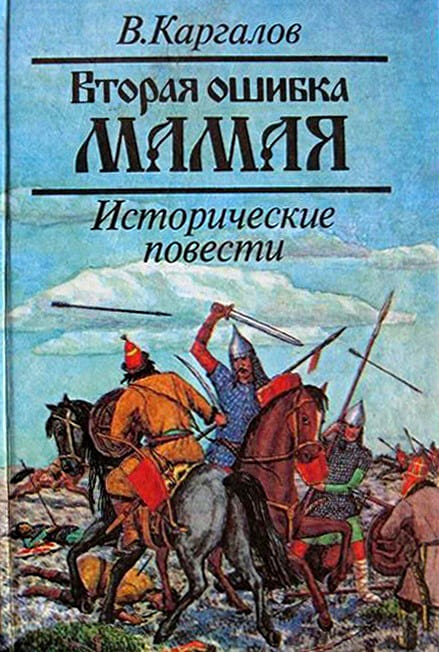 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Контровский Владимир
Контровский Владимир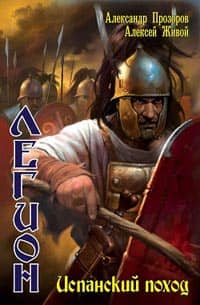 Прозоров Александр
Прозоров Александр