сорвались с голов. А другой рукой, которой сжимали свои хрупенькие теперь
"дипломаты", махали в воздухе точно флагами. Два этих флага долго
вздергивались, торчали над толпой, покуда их не опустили на землю. Опустили
ж морячков, когда поднесли к коням. Они влезли тяжеловато-осанисто на коней,
которые просели под ними, будто утлые лодочки, и захмелели, оказавшись куда
выше земли, раскачиваясь в седлах, маясь в них поначалу. Кругом загикали, то
ли подбадривая их, то ли восхищаясь, глазея на плоские лепешки тонюсеньких
шапок с ленточками и золотыми буквами, на костянистые сплющенные маленькие
предметы, что держали они в руках, как сумки, на брючины, расшитые юбками, и
золото чистое блях. В ночи было не разглядеть лиц, но все они казались
Матюшину какими-то родными и красивыми. Выказывая свою удаль перед родичами
да на глазах морячков, пускались вскачь, впиваясь в косматые гривы коней,
мелкие ребятишки, похожие на мушек. Стайки их черные носились вдоль вагонов.
Пролетая, они стегали вагон плетками - и секли по спящим слепым его оконцам,
как по глазам, что дико было Матюшину понимать, видеть, но никого они все же
не разбуживали. Вагоны молчали, что неживые бочки, потому, верно, и смели их
ребятишки хлестать. Скоро, отхлынывая от вагона, народец весь расселся, как
по местам. Мужики все равно что отсели - каждый приосанился на отдельном
скакуне. Бабы с детьми уместились по двое, а то и по трое на широкоспинных
одутловатых конягах и готовы были побрести за мужчинами. Важными были и силу
излучали новую, неведомую морячки. Они обвыклись с этой своей силой и теперь
восседали, позволяя себе сомкнуть покойно уста, молчать.
набега, всей ордой отошли они поначалу от вагонов, стояли впотьмах
полустанка, будто б теперь кого-то провожали, и кони их слышно топтались,
роптали да выдыхали, как покуривали, клубы пара.
вагонами. Поезд разгонялся, но и люди на конях разгонялись, не отставали,
мчались за ним - и кинулись вдруг неведомо куда, в черноту, пропали из виду.
Еще долго чудилось, что всадники близко, но время потекло дремотней. Матюшин
устал ждать, отлепился от окна.
где лежкался, а оказалось, сторожил служивый.
где проснулись с утреца, поразбудили друг дружку и увидали полупустой вагон,
поезд устремился налегке к Целинограду, будто б конечный этот пункт уже
виделся машинисту в близкой дали. Ехать стали быстрее, однако ж остановок
бестолковых не поубавилось, и обрадовал ни с того ни с сего служивый -
отправляли их не в Целиноград, а ближе, в беззвучную, о которой не говорили
и не думали, Караганду. Прибыть должны были к полуночи, но стало казаться
посреди степного серого утра, что небо смеркается и полночь приходит сама
собой, стоило о ней вспомнить. На первой же станции вылезли они в окна и
понакупили жратвы - больших пельменей. Весь товар и на этой станции отдавали
по рублю, хоть отличались здешние торговки от киргизок, были поприжимистей,
бедноватей - и кульки у них отощали. А когда на одной станции проходил под
оконцем пыльный мальчонка с велосипедом и крикнули они для смеха, за сколько
продается велосипед, остановился тот всерьез да назначил без раздумья цену:
надоел, а он стоял и клянчил под оконцем, отказываясь от велосипеда:
и сыпанул им в глаза, в оконце, закричал, отбегая, припрыгивая:
консервой, а он увернулся и был рад, бросившись за жестянкой в пыль.
сухпай за червонец дождавшемуся проводнику, тот налил еще бесплатно в
бутылки чайного киселя, дал немного винограду. Служивый сутки на их глазах
ничего не ел, но ухмылялся; как ни поглядишь, себе на уме. Червонец лихой на
станции Жарык снова разменяли на манты, хотелось хоть какого мяска. Из них
один был получех из Сызрани, портной с фамилией Гусак, сам маленький, но с
огромными, будто плакал, глазами и с ногой, от рождения кривой, - Матюшину
запомнилось, как смешно он шагал по перрону в Ташкенте, подволакивая ногу,
точно мамаша тащит за собой упирающегося мальца. Был и спокойный,
плоховидящий, из таких, что любят учиться, звался Сергеем, рассказал, что из
музучилища, умеет на трубе. Были похожие после гепатита, что братья, Аникин
и Кулагин, земляки из Пензы, один - озеленитель в прошлой жизни, другой
ничего не умел. В безвременье оставшегося пути товарищи по счастью мечтали
дотемна, что везут их учиться на поваров. Было Матюшину тоскливо: думают, их
выучат и поваром каждого сделают, чтоб всем поровну, а он и поваром не
хотел, и делить с ними даже воздух в пути - задыхался, сутки минули, тоской.
орудийный армейского грузовика, торчащий глухо, зелено из темноты.
Поджидали, знали о них, встречали. Служивый вскочил на подножку, поговорил с
тем, кто был в кабине, и верно, оказался грузовик, посланный забрать их с
вокзала. Они ж зябли от холода и ветра на черной, будто мокрой, платформе.
Ветер гнул деревца, болотные в ночи, и воздух сырой пахнул болотом. Но тогда
не понимали они, что город прозябает который день в дождях, а казалось, что
такой Караганда эта была вечно, прикованная к серости, холоду, сырости,
будто цепью. Огоньки вокзала зловеще мерцали в той полночи, в час их
прибытия. После радости бескрайней света, тепла чудилось, оказались они в
сыром, холодном подвале - не на земле, а в подземелье.
кабине двое, ему не хватило. В дыру, над которой нависал полог брезента,
дорогой глядели огоньки - ползали, копошились. Ехали в молчании, точно
дремали. Куда приехали, там уж не встречали. Кто был в том месте дежурным,
ругался и упрямился, держа их на холоде у грузовика: что и кормить ему
нечем, и класть некуда, и надо решать. Вспыхнула было надежда, что они и
вправду оказались здесь чужими, ненужными, но служивый ее потоптал. Ругался
он да упрямился крепче дежурного. Стало ясным до тоски смертной, чья
возьмет. Дежурный разуверился, отпрянул, дал служивому волю - и койки сами
собой среди ночи нашлись. Здание это примыкало одной стеной к дежурке. По
душку в комнате да и по всему узнавался лазарет. Они улеглись и тут же и
уснули, а глубоко ночью их разбудили - раздался шум, вспыхнул свет, в
комнатку к ним проник бодрствующий, верно из дежурки, солдат. Матюшин лежал
с открытыми глазами и слушал.
Ташкенте залаживал? Мы ж из того полка узнаем, земля тесная, тогда ж всех
подвесим, ну, лупоглазый, чего целкаешься, ты ж лупоглазый, рвись! Ух ты, да
ты конвойник честный! Ну, будя. С тебя панама, честный, у нас таких нет. Все
гоните панамки, не жильтесь. На пилотки сменяем, а то не мы, так старшие
сменяют, все равно пропадут. А нам дома пофорсить. Служить будем вместе,
братаны, а подыхать врозь!
вспышкой света, как сфотографировал, и ушел, а ранним утром, часу в пятом,
поразбудили их здешние, что слышали ночью шум, хотели поглазеть. За оконцем
колыхался на ветру дождь. Место это было видно из оконца во всю ширь.
Деревянный колючий лесок заборов, пустоты неба, грибы бледные домов. Здешние
притащили кастрюлю прошлой сопливой солянки, но и холодная была она вкусной,
кормили здесь подобрей, чем в Ташкенте. В лазарете было четыре палаты, и
болело у них своих всего три человека, отчего жили эти трое почти семьей,
похожие не на солдат даже, а на взрослых детей. От них узнали, что это
конвойный полк, где служили, а не учились на поваров. Объяснить себе, отчего
ж отправили из конвойного ташкентского в этот полк, не могли.
как на больных, заразных животных, и уходили.
принять, - явился служивый. - Трогаемся назад на наши юга.
возить по серому, пропитанному дождями городу, затирать по больничкам - в
одной кровь на анализ возьмут, в другой животы щупают. И на комиссию одну и
ту же по три раза возили. Вернут в лазарет, покормят обедом и обратно увозят
к врачам на осмотр. Они успели уж сговориться, что будут жаловаться на
болезни, чтобы их возвратили, раз больных боятся, служить в Ташкент. Матюшин
жаловался комиссии, что ничего одним ухом не слышит, а Гусак - что не может
одной ногой ходить. Было весело, что боятся их тут как огня, да и по глазам
сердитым комиссии было видно: их отправят в Ташкент. Ждали ответов на
анализы. Служивый квартировал в лазарете и встречался им всякий новый день.
Он брился, ел, спал, ходил гулять на плац и оброс покоем, стал чужой - да
исчез в одно утро без следа... Потом отделили, забрали Гусака, и он не
вернулся. Пропали Аникин с Кулагиным, увели в казарму ночевать. Разъяснять
никто ничего не хотел - жадничали простых слов. В другой день, показалось,
пришли за теми, кто остался. Сказали выйти на воздух. Тянулись за колючкой
холмики ангаров, складов, они ж брели по обочине за офицериком. У склада,
где простаивал безмолвно фургон, распахнутый, набитый головастыми свиными
тушами, сунулся он в низенькую дверку.
одобрительный гул, и они спустились, оказавшись в холодном каменном погребе,
благоухающем духом жареного мяса. Жарил себе мясцо расхристанный,
сердобольный мужик - на плитке, будто творил чудо.
С меня ж и спросят! А это кто такие, ты ж кого приволок?


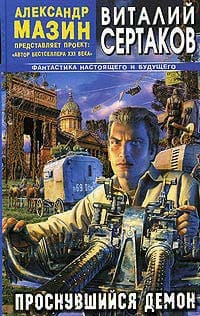
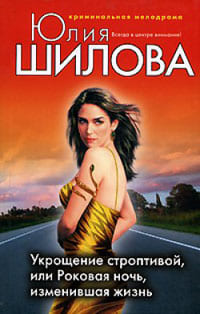
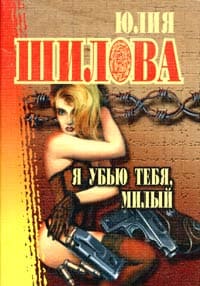

 Браун Дэн
Браун Дэн Круз Андрей
Круз Андрей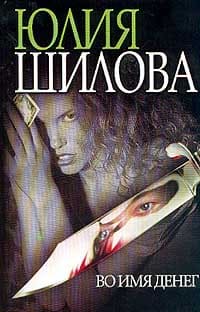 Шилова Юлия
Шилова Юлия Суворов Виктор
Суворов Виктор Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Ильин Андрей
Ильин Андрей