его признан был негодным к военной службе, потряс и чуть не состарил отца.
Да ведь и мог же он стать просто врачом, но такой щадящей простой мысли отец
не допускал. Если не может быть военным, значит, окончательно никчемный. И
отец мог сказать:
инвалидка.
верил, он и вовсе расхотел учиться. Ему было безразлично, куда его занесет.
Он поступал как легче, но и потому еще, что готов был просто трудиться, не
боясь замараться и занять не первое место, как боялся всю жизнь отец. Учебу
и путь в будущее ему заменила работа, но ремесло выбрал он себе первое
попавшееся, замухрышное - слесаря. Отец позволил ему молчаливо стать
недоучкой, но презирал сильней, насмехаясь даже над той денежкой, что начал
приносить Матюшин в дом и отдавать на питание. Якову, тому мать высылала в
Москву по тридцать рублей в месяц, может, и те тридцать рублей, которые
Матюшин ей на хозяйство сдавал.
отцу, что в отпуск уедет в стройотряд на заработки. В деньгах он нужды не
имел, да и много ли надо в казарме, но не докладывал он отцу, что хочет
жениться. Известно об этом стало, когда молодые уж сыграли свадьбу. Яков
выслал фотографии со свадьбы и письмо, что не хотел отрывать от дел отца,
втягивать его в расходы, беспокоить. Будто и не обручился, а заболел и
выздоровел. Отец в душе-то был доволен, что не втянули в расходы. Он полюбил
не тратить, а копить деньги на сберкнижке, так что даже мать не знала
толком, сколько скопилось их. Через ту сберкнижку, где пропадал полковничий
его оклад, жили в семье скромненько на материну зарплату, на копейку, что
начал добывать в училище Матюшин, на отцовский паек - отец член обкома был -
да выручаясь картошкой и овощами с огорода. Отец заставлял их с матерью
горбатиться, а солдат использовать настрого запрещал.
Ельск, почтили отца.
себе, в своей красоте, безродная гордячка, но и крепкая, светящая округлым
желанным телом, будто и не девчушка, не было ей и двадцати лет, а зрелая, в
соку, женщина. Даже и у матери не повернулся язык назвать ее доченькой,
видной была сразу и любовная ее над Яковом власть, хоть Яков казался сильнее
и тверже, - не отходил от нее, томился, но держался хозяином. Людмилка
уважительно отстранялась от отца, как бы уступая ему место, и, как чужая,
равнодушно слушалась матери, как им устроиться в комнате, с постелью. Отец
не проникся к ней теплом, смирял себя, не желая замечать, какая она женщина,
и говорил в ее присутствии только с Яковом. О ней ему довольно было знать,
что она не москвичка, и он, верно, полагал уже так, что ей, хохлушке
безродной, большая честь породниться с человеком государственного масштаба,
каким он себя считал, хозяином порядка в Ельске. Ему же она не ровня, не
родня, а приживалка, что и борисоглебские. Пропала Москва задарма: что
учился, что нет. Такого добра везде хватает, и в Ельске таких что навоза,
мог и тут жениться. Раз ты из грязи в люди выбился, так чего же опять
лезешь-то в навоз, нет, видать, не доучился, судьбу на судьбишку меняешь,
сгинешь на своей границе.
подальше от дома, пострелять. Для молодых все было устроено. Так как в
Ельске поедом ела тоска, каждое утро к дому подкатывал газик, им устраивали
такую же охоту, рыбалку, что только мог выдумать отец. Младшего брата Яков с
Людмилкой возили за собой. В первые дни ездили как семьей, с радостью
детской, отправлялась отдыхать с ними и мать, вырвавшись без отца будто на
свободу.
гордился, что есть у него такой брат, но и робел перед его счастьем.
Тяжеловатый, Яков хоть и ездил отдыхать, но мог только спать да есть.
загорать на речку), осветили жизнь Матюшина такой радостью, которой он
больше не смог испытать: хотелось сделать все для другого, простор, вновь
обретаемая вера в себя, в жизнь свою, в распахнувшийся огромный мир. Сама
того не ведая, только скучая и играясь, новорожденная эта женщина, вспыхнув
лаской, сделалась вдруг кровно родной, непререкаемо-единственной. Будто
мать. Рождаясь наново и вылезая из холодной своей лягушачьей шкурки, Матюшин
и не постигал, что может любить. Он жаждал и мог только подчиняться ей. Ему
чудилось, что Людмилка теперь всегда будет жить с ними, что не может она уже
исчезнуть - и не любовь, а такое яркое, ясное взошло в тот год лето, земное
и неземное, как из-под земли.
подолгу в покойной воде, Людмилка ему позволяла мять и гладить ей спину,
плечи, что было ей приятно и усыпляло. Эти ее штучки опротивели брату. Но,
бывало, Яков с Людмилкой отлучались - Яков брал покрывальце и уводил ее
далеко, в кукурузное высоко стоячее поле, ничего не говоря брату, не думая
ничего объяснять. И ждал Матюшин покорно, понимая, что Людмилка принадлежит
брату и должна пойти с ним. Это делалось так буднично, будто ходили они в
кукурузу справлять нужду. Яков тяготился им все больше, презирал его, и
как-то отвращение его вырвалось наружу, он громко выговорил жене:
уезжать. Яков насмехался над ней, все из чемодана расшвыривая, материл.
Ничего не понимая, вбежала мать, кинулась к Якову и вцепилась ему в глотку,
не давая опомниться. Точно пружина стальная, обретя разум и силу, ее
обхватила со спины Людмилка, оттаскивала как могла от мужа, - Яков
испугался, оцепенел. Мать будто сошла с ума, и спасала ее, а может, и
всех-то спасала, одна Людмилка, не ведая ни страха, ни жалости, точно
д-олжно ей было спасать. Сила ее, какая-то страстная, но и холодная, без
борьбы, обездвижила бьющуюся в слезах мать. С той же страстью, холодом
Людмилка вжалась в мать, уткнулась губами в затылок ее, твердя что-то о
прощении и что все у них с Яковом хорошо, что сама виновата, а он не
виноват. Мать утихла, маленькая да сухонькая, с виду как старушка, убралась
обратно на кухню, уплелась. Ей довольно было, что не порушился в доме покой,
но дом и вовсе опустел, точно опустошился. Людмилка увела Якова гулять, и
пропадали они где-то допоздна.
мать или нет, но молодых услали одних на дачку, отсутствовали они с неделю,
а к приезду их уж заготовили обратные билеты. Больше они на речку не ездили.
Матюшин сбегал рано утром из дома и прятался весь день, приходя домой к
темноте, запираясь в комнатке спать. Его загрызал стыд, но и мучило горе.
Никто не подумал в те дни о нем, никому он не был больше нужен. Людмилка им
брезговала, он даже не удостоился от нее презрения, как от брата, хоть Яков
после дачки скорей равнодушно не замечал его существования в доме, а не
презирал. Здоровые, зубастые, гогочущие, обсуждая будущее, сиживали они
вечерами бочком с отцом. Отец наставлял Якова, как надо держать себя, чего
надо от службы добиваться, щедро и с охотой вспоминая случаи из своей жизни,
когда и он начинал служить. Замолвить словечко за сына он не мог,
погранвойска состояли по другому ведомству, и Якову предстояло биться за то,
на какую границу пошлют. Григорий Ильич наставлял, что начинать надо с мест
глухих и дальних, нехоженых, откуда легче выбиться, где народишко устает
служить, не борец, но есть риск - значит, и есть где себя заявить. Дальний
Восток или Север. Если же с запада начинать, в Прибалтике или в Белоруссии,
где сытней, то сожрут, подомнут, не дадут вырасти, такой народишко служит,
боров, одной тушей задавит, ученый, только место свое сытное и сторожит.
должна была обслужить его, когда воротится со службы, - и порядка этого
ничто не могло нарушить. В их семье заведено было провожать только до
порога. Переступил порог - точно уж пересел в поезд, выветрился. Зато
снаряжали в дорогу торжественно, долго, будто похоронный это был обряд. Весь
день мать заставляла прихожую коробками с вареньями, компотами, соленьями.
Никто ей не помогал, да она и не звала помогать, по своему усмотрению и
разумению громоздя эту тяжесть из банок. Груз коробок никак ее не пугал.
Запасая Якову впрок, не думала она, каково будет ему коробки тащить.
Кое-как, с помощью солдата, загрузили их в "газик", присланный напоследок
отцом. Тому же солдату велено было подождать на станции до прибытия поезда и
помочь им погрузиться, но Яков сказал, что "газик" на станции отпустит, а
поможет им погрузиться брат, проводит их. Мать не могла взять в толк, отчего
нужно всем набиваться в машину, трястись в теснотище да с коробками, если
есть солдат и доедут они удобней. Яков, не споря с ней, молча кивнул брату -
и Матюшин полез в утробную темноту "газика", чувствуя только, что куда-то
падает.
безлюдной платформе. Станция в Ельске состояла из двух вкатанных в землю
асфальтовых платформ и живущего своим тихим мирком вокзальчика. Людмилка,
будто была одна, отошла в сторонку, принялась ждать. Яков обыскал глазами
вокзальчик и, ничего не говоря, пошагал куда-то внутрь.
по-вокзальному рюмочной, где никогда в жизни не бывал, пахнущей пронзительно
лесом. Яков спросил сигарет, водки, с полстаканом которой, бесцветным, точно
пустым, встал у первого попавшегося столика, закурил, уперся устало в
стакан.
немоту.
хочешь, может, водки? - вгляделся в него.
бутылку.



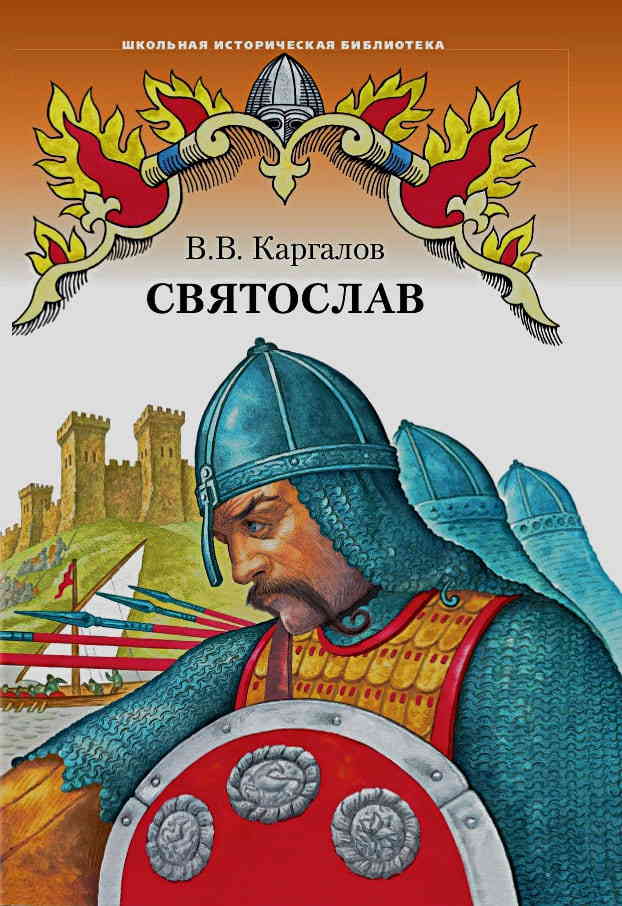


 Акунин Борис
Акунин Борис Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор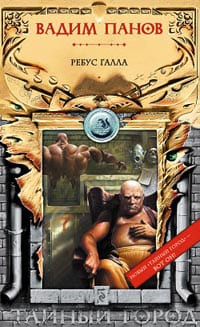 Панов Вадим
Панов Вадим Максимов Альберт
Максимов Альберт Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна