комнатам, увидел вдруг двоих и вовсе подозрительных людей, рыскавших что-то
на задках дома. Они были в черных смокингах, затянутые в них, что устрицы,
смуглые, скуластые, а один курил сквозь зубы. Подумать, что в Ясную Поляну
съехались поразвлечься, возможно, тульские уголовные авторитеты, было дико,
но потому только, что здесь уж им было не место. Мы вышли из дома.
Сфотографировались на крыльце. А два этих человека вдруг вынырнули из-за
угла, но уже без смокингов, а в белых шелковых рубахах и деловито
распоряжались горсткой людей, которые строили что-то на веранде дома из
дощатых щитов. Один из них крикнул на строителей: "А где шампанское?" -- и
мимо про- несли на подносе серебряном натуральную бутылку шампанского. Вдруг
вырос у веранды, как из-под земли, настоящий, живой Лев Николаевич Толстой
-- было даже видно, как слезятся старчески его глаза. Он потоптался у
крыльца, глядя на столпившихся людей с удивлением, как на дикарей, и, не в
силах больше терпеть посторонних любопытных взглядов из толпы, скрылся
тяжеловато за угол дома.
что будет это такой спектакль, как наяву. Я думал, что покажут отрывок из
толстовской пьесы, а оказалось -- и в том была вся соль -- в интерьерах
усадьбы разыграется актерами его, Льва Николаевича, личная драма. Старик в
толстовском одеянии был пожилой седенький актер, с приклеенной бородой. И те
двое в смокингах, деловые, оказалось, играли роли в спектакле и по ходу
действия выскочили они разок унимать отца, играли эти двое сыновей Льва
Николаевича.
больному палаты номер шестнадцать", действующие лица -- Чехов Антон
Павлович, Толстой Лев Николаевич, доктор, фельдшер, сестра милосердия,
сыновья Льва Толстого, Софья Андреевна и "лакей с шампанским". В первой
части приболевшего Чехова навещает с гостинцем Лев Николаевич, в части
второй -- серьезно уж больного Толстого навещает Антон Павлович, а потом
звонит ему в финале из Москвы в Ялту по телефону. Писана таковая пьеса была
Марленом Хуциевым с сыном, а поставлена Липецким государственным
академическим театром имени Л. Н. Толстого и игралась в Ясной Поляне почти
как премьера: сами Хуциевы, как сказали, смотрели ее впервые. Что-то было
сказано про дружбу Владимира Ильича с этим театром, про их, музея и театра,
какое-то сотрудничество.
ставя на его приступок ноги от тесноты. Тесно было и актерам. Так как
спектакль игрался все же в Ясной Поляне, то помимо бутафории в действие
стало возможным ввести даже взаправдашние предметы из обихода Льва
Николаевича -- жестяные коробочки, как из-под монпансье, старую сохлую
книжку, кожаное кресло-каталку. Хоть актеры старались, но предметы эти
привлекали внимание куда сильней, попадая в их руки, начиная как бы
двигаться. Очень туго было с Чеховым -- ролька куцеватая, так что актеру
приходилось строить невероятные страдальческие гримасы и кашлять чуть ли не
каждую минуту запоем в платок, чтобы хоть как-то оживить образ, не застыть в
виде ряженного в долгополое пальто чучела.
неожиданно стал захватывать; в его душе, в душе провинциального актера,
разбушевался на глазах трагик. Дошло до того, что Чехова-то он запросто
запугал, накидываясь с бурей чувств на каждый его кашляшок, и актер молодой
то краснел, то белел, начиная заикаться, прятать лицо поглубже в платок, так
что чахотка уж походила на хронический насморк. Но и публику, поневоле
близкую к помосту, трагик пробирал что мороз по коже, взглядывая вдруг на
кого-то в упор глазами убиенными, полными неподдельного горя и слез. Один
раз старик взглянул так на меня, и я почувствовал себя в тот миг подлецом --
и это было странно, тошно, как встать с ног на голову.
шампанским, которым только что, в финале, обнес их с Чеховым лакей, и он
провозглашал устами Льва Николаевича тост за вечную жизнь. Шампанского
налили режиссеру Пахомову и Хуциевым, что вышли под аплодисменты на помост.
Пили шампанское за актеров и удачный спектакль. Все, кто был на помосте,
целовались и радовались. Младший Хуциев норовил разбить фужер, но бывший
лакей аккуратно вынул из его рук хрустальный этот фужер, реквизит, а потому
гусарства не учинилось. Марлен Хуциев обмолвился о претензии своей к
режиссеру, что тот сделал многое не так, как сделал бы он, и покривил важным
содержанием пьесы. Режиссер, пойманный, высказал намеком претензии к сцене,
то есть веранде, где игрался в тесноте спектакль и потому-то терял толику
жизненности; вот нельзя было организовать телефонного разговора Чехова с
Толстым, не было колонок, а потому актеры, которых разделяли, по замыслу
режиссера, сотни километров, говорили по телефону, глядя друг другу в лицо,
будто встретились на том свете. Выходило ж про Софью Андреевну из
увиденного, что была она женщиной самовластной, а сыновья и вовсе походили
на бесчувственных санитаров; и Владимир Ильич все же высказался публично,
что "бабушка" -- а в семье Толстых называют Софью Андреевну не иначе как
бабушкой и чтят наравне со Львом Николаевичем -- была лучше в жизни, чем это
показано в пьесе, не говоря уж о сыновьях -- людях благородных, каждый из
которых по-своему любил отца. Антипова за речами да здравицами подзабыли, и
он тихонько, одиноко топтался где-то за спинами, позади. Когда с ним
захотели многие сфотографироваться, он и вовсе исчез, как испарился. Андрей
Битов грустно обронил в никуда: "Ему бы играть Александра Исаича..."
-- первый день докладов и выступлений, говорил Маканин, который сегодня же
улетал еще и в Швейцарию на конференцию по творчеству Платонова; а когда я
узнал, что Маканин улетает, то показалось чуть не буквально, что где-то
рядом с Ясной Поляной есть аэропорт, до того сам Владимир Семенович никуда
не спешил и не боялся опоздать. Я заглянул внутрь, но в зальчике не хватало
мест; а в первых рядах сидел одинокий и подзабытый в новой этой суете
Дмитрий Михайлович. Мраморный пол, ракушки светильников, что разливают
повсюду нежный перламутровый свет, -- похоже, должно быть, на римскую баню.
Владимир Ильич плавал в своем офисе, рассаживая гостей, похожий и сам на
золотую рыбку. Обед же превратился в банкет; борщ и котлеты под водку, что
стояла на столах от издателя Петра Алешкина, в честь премии. Дмитрий
Михайлович черпал ложицей борщ так чинно, что я поневоле теперь залюбовался
им, так давно никто не ест, будто ложка была деревянной; за одним с ним
столом сидели, конечно, дамы напомаженные, издатель тот славный Алешкин,
Валерий Павлович Ганичев, с телохранителем по одну руку, с супругой -- по
другую, похожие все вместе на большую крестьянскую семью. Про Балашова я
впервые узнал, что он то ли жил, то существует до сих в Новгороде и очень
нуждается, чуть ли не бедствует. Было слышно, как он говорил, что не боится
смерти, что Бог даст ему смерть, когда уж все должное напишет до конца, а
этого должного еще много у него для жизни осталось. Но ложку вдруг
откладывает по-детски -- в сторонку от тарел- ки -- и, спохватываясь, пугая
Алешкина с Ганичевым, начинает вспоминать, перечислять: вот про то должно
написать! и про это должно! и еще про то!
бродили мы из номера в номер, ходили по гостям. Были у Киреева, то есть у
Киреевых, приехал Руслан Тимофеевич в Ясную с женой, угощали нас
по-семейному конфетами. На первом этаже, видимо в "люксе" по здешним меркам,
то есть в двухкомнатном номере с мягкой мебелью, арабской кроватью,
самоваром и телевизором, селился Андрей Георгиевич Битов, который остался в
Ясной еще на день и разрешал заходить, поглядеть на себя, поговорить с
собой, у него же не переводилась отчего-то и копченая колбаса. Все сообщали
с каким-то почтением, когда высказывали желание собраться у Андрея
Георгиевича в номере, что хотели бы послушать, как Битов будет говорить,
будто он и не говорил, а творил чудеса. Мы просидели у Битова до двенадцати,
карауля его рассказы, что-то подкараулили, поели колбасы, а потом разошлись
по номерам спать.
похмелья вместо головной боли появилась боль зубная, но зуб ныл все сильней,
не давая сомкнуть глаз; верно, застудил. Утром мне посоветовал кто-то
прополоскать зуб водкой -- и я перед завтраком прополоскал. Хмельной я не
был, но чувствовал себя парящим, ничего не весящим после бессонной ночи,
точно б призраком. В небе одна серятина. Воздух тяжек, душен от влаги, а
ветерка, чтобы посвежело, нет как нет.
бесхозного автобуса. Собрались наконец все, не было одного Битова.
Покричали. Андрей Георгиевич ведь должен был произносить речь перед
возложением цветов на могилу. Он всплыл сбоку от главного входа, на балконе,
уподобляя здание пансионата какой-то громадной облупившейся фреске, и,
отсеченный лентой балкона по пояс, донес до нашего слуха, что отлежится и на
завтрак не поедет, а нагонит нас уже в усадьбе. И потом это роилось, уже в
автобусе, я слышал обрывки разговоров: "Битов приедет сразу на могилу...",
"Битов сказал, что это будет лучшая речь в его жизни..."
"флигелька", толпятся люди, но ощущения толпы нет -- и все больше женские
незнакомые лица: cтарухи в обношенном, какие бывают сейчас пенсионерки,
толстые и худощавые обычные женщины, похоже, что с дочерьми. И маленький
полненький старик с волнообразным томным голосом, все его почтительно
слушаются, даже Владимир Ильич. Тот попал как раз в их, женщин, руки -- все
стараются обнять его и поцеловать, а он обходит их по очереди, отчего
невольно и они выстраиваются в рядок. Я понимаю, что это собрались,
съехались на день рождения потомки, кто смог. Слышно по разговору, ехали из
Москвы, садились, верно, чуть не на первую электричку, чтобы успеть. Выносят
ведро с цветами, с астрами, кажется, Владимир и выносит его, будто пышущий
жаром самовар. Кто победней и без своих цветов приехал, старушки, чуть
похожие на пичужек, радуются и толпятся подле ведра взять цветочков, а
поклевали -- то ведро осталось стоять перед домом уже никому не нужное,
пустое. Всем полагается быть с цветами. У меня тоже два цветка, но из
последних оставшихся, чахлые. Владимир беспокоится, что нет еще Битова,





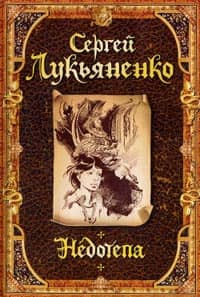
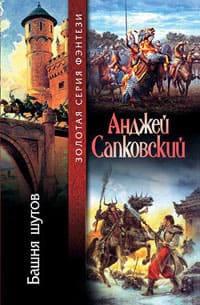 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей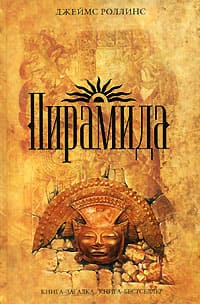 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Шилова Юлия
Шилова Юлия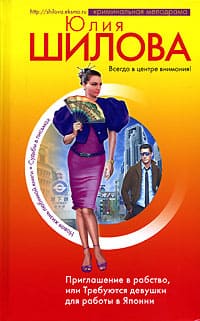 Шилова Юлия
Шилова Юлия Никитин Юрий
Никитин Юрий Березин Федор
Березин Федор