она отложила картон и снова села за вышивание: петушки и курочки вдоль по
строчке скатерти. Но потом испугалась, что мать увидит картину, и отнесла
ее на чердак, и там посмотрела на нее перед тем, как поставить к стене, и
на нее глянули бездонные глаза старухи, и ей стало страшно, и она поскорее
спустилась вниз. Музыки уже не было: солдаты прошли, праздник света и тени
кончился.
стало радостно, и он запел песню, и все в кафе притихли, потому что пел он
странные слова:
старик на дорогах, в стогах - редко кто пускал сироту в дом: несчастный,
он только несчастье и носит с собою.
крух*, не целый, правда, а лишь половину, но крух был пышный, мягкий, и
старик, продолжая петь, сунул хлеб в котомку.
вытер осторожно рот ладонью и тихонько засмеялся.
тиной затянуло, так и сгинуло все, словно бы стихло. Я ведь слова пою,
когда они видные мне, иначе не умею.
Неужели море? Почему так солоно во рту? Неужели это я плачу?"
сине-бирюзовую; когда поднимаешься из порта к Старому Муртеру, на гору,
тогда видишь море окрест себя, и оно кажется литым. Только когда подойдешь
к нему близко, начинаешь понимать, что оно живое, и цвета его вблизи
меняются неожиданно, особенно в конце мая, когда ночью задувает бора, а
днем тянет жаром из Африки и море темнеет, потому что сине-бордовые ежи
облепляют камни под водой, а к вечеру делается прозрачно-голубым, будто
глаза Качалова, когда во МХАТе на утреннем спектакле он читает от автора в
"Воскресении".
было в верстке, - решил он, - я бы вычеркнул. Море действительно делается
прозрачным, но это знаю один только я, потому что я разглядывал его,
склонившись к нему, и ощущал запах йода, и мне чудилось, будто я на приеме
у самого доброго лекаря, а у лекаря могут быть прозрачные глаза, но нельзя
ведь сравнивать море, которое привиделось мне таким, с глазами Качалова; у
него глаза особые, других таких нет в мире. У него глаза шаловливого
Христа, который запросто пришел в пирожковую на Никитской, где мы всегда
ужинали с Марией, или в мою любимую сауну на Илице, и разделся, и
предложил мне потереть спину жесткой мочалкой, или встретился в Толедо
ночью после боя, сел поближе, и налил терпкого тинто в наши стаканы, и
сказал подмигнув: "Что, сын мой, грустно тебе? А мне каково?"
Божены Детитовой, которая склонилась над ним и, касаясь волосами его лба,
улыбалась и шептала, что Мария не должна сердиться на нее, потому что "я
ушла и никогда не смогу помешать ей, и я не умею так лечить боль, как
умеет она", ведь "я просто пришла к тебе на секунду в самый трудный твой
день, как мы и договаривались при расставании - позвать друг друга в самый
трудный день".
мучительной и тоскливой ясностью увидел решетки на окнах, кандалы на
ногах; наручники, которые стиснули запястья так, что кисти сделались
синими и большими, как у утопленника, и понял, что не звал Божену и что
она сама пришла к нему, потому что женщина, которая любит тебя, а не свою
к тебе любовь, всегда чувствует твое горе и твой конец, и спешит к тебе, и
приходит, и тогда особенно больно, но это такая боль, которая смягчает
страданье, потому что боль бывает и доброй и злой.
минут на пять, не больше, и что этот худой парень, который постоянно
заглядывает в камеру, как только его начинает клонить в сон, кричит свое
"вставай!" уже не первый и не второй раз, иначе голос у него не был бы
таким визгливым, как у торговки, которая ругается из-за места на
воскресном рынке за Елачичевым тргом.
его счастье - мозоли на локтях; профессиональная болезнь литераторов,
которые подолгу сидят, облокотив подбородок на сцепленные пальцы, и
работают, глядя в одну точку, спасала его сейчас, потому что он мог хоть
на несколько минут забыться, опершись этими твердыми костяными мозолями о
шершавые доски нар, и охраннику сперва казалось, что узник думает, а не
спит. Он ведь человек, охранник-то, а каждый человек деяния других меряет
по себе. Он не смог бы так долго сидеть, опершись локтями о шершавые
доски, выдерживая на сцепленных пальцах тяжесть бессонной и жаждущей влаги
головы...
какой тяжелый. Он вдруг явственно увидел говяжьи языки, которые мать
покупала весной на рынке, и удушливая тошнота подкатила к горлу, дыхание
перехватило, и страх - черный, шершавый, похожий на ядовитую фиолетовую
муху с горящими в ночи глазами, - заглянул в его лицо и притронулся
холодными цепкими лапками к вискам и шее.
именно. Ему не давали пить, а поначалу, в первый день ареста, накормили
вкусной жареной рыбой, присыпанной крупными кристалликами желтоватой
рыбацкой соли. Он съел рыбу, удивившись новым временам в тюрьме, обшарил
глазами металлический столик, не обнаружил алюминиевой кружки с жидким
арестантским чаем и решил, что в этом странном з а т в о р е* его,
возможно, будут поить кофе, раз уж дали такую великолепную рыбу. Но ему не
дали кофе, и чая не дали, даже жидкого, и не дали ему воды: холодной,
прозрачной, сладкой; нет, теплой, болотной, мутной; нет, ржавой, с
разводами нефти, похожими на узоры, которые появлялись на мыльных пузырях,
которые он пускал в детстве со второго этажа, наблюдая, как зыбко дрожали
они в воздухе, и как нес их ветер вдоль по улице. Как он молил бога, чтобы
они не лопнули, а осторожно опустились на какую-нибудь крышу в деревне, и
пусть другой мальчик нашел бы этот мыльный пузырик завтра и стал играть с
ним, и пустил его, легонько подкинув с мягкой ладони, и ветер принес бы
этого старого знакомца к нему обратно, и он положил бы его на вату на
подоконник, где много солнца и где стоит аквариум, в котором...
промежутки времени; он определил, что эти промежутки были такими равными
оттого, что ему не хватало воздуха и он хотел проглотить комок в горле, но
не мог этого сделать и, чтобы не закашляться, начинал монотонно просить
воды.
проклятый комок? Может, я просто придумываю всяческую чепуху? Мне ведь
тоже казалось, когда я первый раз пришел на Красную площадь и увидел
парад, что в горле у меня комок и что я не смогу проглотить его, а потом
мне казалось так еще много раз, когда я приезжал в Тбилиси к Паоло Яшвили
и он, откинув голову, читал стихи и просил Пастернака перевести мне, а я
не мог возразить, потому что в горле у меня был такой же, как сейчас,
комок, и я не мог сказать, что я и так понимаю стихи, хотя поэт читал их
на странном и певучем языке. Разве нужен перевод Бетховену? Или Мэй



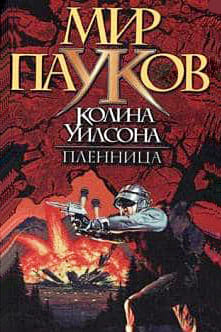


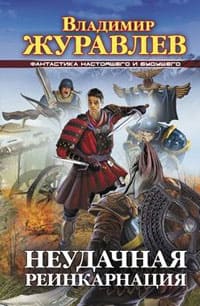 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир Березин Федор
Березин Федор Смоленский Вадим
Смоленский Вадим Суворов Виктор
Суворов Виктор Самойлова Елена
Самойлова Елена Лондон Джек
Лондон Джек