сам хорват, рожденный в Италии и поэтому лучше вас знающий, что такое быть
чужаком!
отречения от ваших идеалов - я достаточно хорошо знаю вашу биографию,
чтобы требовать невозможного. Служите своей идее, но только помните, что
по крови вы хорват.
декларацию: "Я, Отокар Кершовани, хорватский коммунист, озабочен судьбой
моей хорватской родины и в эти тревожные дни хочу быть вместе с моим
народом, чтобы разделить с ним все тяготы и радости".
я хорватский коммунист. Это ошибка. Я югославский коммунист, майор.
Второе: значит ли, что девять членов компартии Югославии, среди которых не
все хорваты, арестованные вместе со мной, будут освобождены после
подписания такого рода декларации?
заниматься Белград. Я уполномочен заниматься только хорватами.
потолку. Он вспоминал донесения службы наружного наблюдения, которые
сообщали о поведении Кершовани на воле, когда он был освобожден из тюрьмы
- всего несколько месяцев назад - после десяти лет каторги. Перед
освобождением сокамерники подарили ему костюм - тот, в котором его
арестовали, сгнил от хранения на тюремном складе. Следить поэтому за
Кершовани было легко - костюм, который ему подарили, оказался велик, и
человек, известный Европе теоретик, владевший умами молодежи в бурные
двадцатые годы, шел по улицам Загреба как бродяга: рукава пиджака
болтались, закрывая пальцы, брюки трепались по мостовой, и он то и дело
подтягивал их, явно смущаясь этого своего вынужденного, чисто тюремного
жеста. Полицейские, которые "вели" Кершовани по Загребу, удивились, когда
он долго стоял около светофора, не решаясь перейти улицу, а потом вдруг
повернулся и побрел домой, то и дело испуганно озираясь. Данные
телефонного прослушивания все объяснили: Кершовани позвонил своему другу
адвокату Ивану Сеничу и сказал, что он не смог прийти, потому что его
пугают шум улицы, скорость машин и обилие людей, которые куда-то
торопятся, громко говорят, не опасаясь окрика надзирателя, обнимаются,
пьют вино в кафе и смотрят на него странно изучающе. Но через неделю
Кершовани снова включился в работу, начал издавать газету "Хрватска
наклада" и журнал "Израз". Его и взяли-то в типографии на Франкопанской
улице, в маленькой тесной каморке, где он вычитывал корректуру перевода
"Материализм и эмпириокритицизм", который Прица и Пьяде сделали на
каторге...
Он издевается надо мной, ставя свои вопросы. Он слепой фанатик, и нечего
строить иллюзии".
- просто мне казалось, что в трудные для хорватов времена вам, хорватскому
интеллектуалу, надо было бы отказаться от своих утопий и подумать о судьбе
народа. Видимо, я ошибся. Вы живете в другом мире и служите чужой идее.
Вспомните, как вас унижали сербы, когда Хорватия была подвластна Белграду.
Вспомните вашу жизнь, Кершовани. Вспомните Нану...
Шилович, своей жене. Она была самой блистательной балериной Югославии, он
- самым известным югославским публицистом. Их лучшие времена совпали: Нане
было двадцать лет, и она приехала из Парижа и танцевала Одетту, и
Кершовани любил ее. Понятие "принадлежность", сопутствующее понятию
"любовь", было кощунственным, когда он думал о Нане, смотрел на нее утром,
проснувшись первым, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить ее, когда они
сидели за столом и солнце пронизывало синие занавески и играло в ее
глазах, и в капельках оливкового масла на тарелке, и в гранях высокого
бокала, из которого Нана лениво потягивала легкое вино. А когда вечером,
отложив дела в редакции, он шел в театр и, укрывшись в директорской ложе,
любовался ею на сцене, он вспоминал, как она жарила себе на обед толстый
кусок мяса и жаловалась, что не смеет есть картофель и хлеб, чтобы не
набрать лишних двести граммов, и просила его не резать при ней колбасу.
"Не сердись, милый, - говорила она, - я страшная обжора, как все
танцовщицы, и я не могу видеть, как ты отрезаешь себе эту прекрасную
кровяную деревенскую колбасу - я так чувствую ее чесночный запах, мне так
хочется ее попробовать, а этого никак нельзя..."
все то время, пока шел процесс, и когда председательствующий предоставил
ему последнее слово, а Нана сидела во втором ряду, он тоже думал о том,
какое напишет ей письмо. На нее все время таращились прокурор и защитник,
а он старался не смотреть на нее, чтобы она не заметила в его глазах боль
и любовь, и чтобы не было ей из-за этой его боли и любви горько уходить
отсюда, и чтобы она могла возвратиться в театр без раны в сердце, потому
что израненное искусство остается великим только какое-то время, а потом
оно начинает пожирать само себя, ибо всякая боль - как мир и как человек -
автономна, и живет по своим законам, и мстит окружающим и даже тому, в ком
она живет.
из зала суда, и они снова были бы вместе, и он поэтому долго стоял молча,
вцепившись холодными пальцами в деревянные перила, которыми ограждены
подсудимые.
- и вы были бы обязаны меня оправдать, потому что улик против меня нет. Но
для меня высокая честь защищать перед лицом общественного мнения идеи той
организации, к которой я имею счастье принадлежать, - я говорю о
Коммунистическом Интернационале, о Коммунистической партии Югославии и о
Советском Союзе, ибо три эти понятия неразделимы для меня. Я был
пацифистом и разочаровался в этом идейном течении, не способном решить
задачу, которую мы, коммунисты, перед собой ставим: создание общества
равенства и культуры, общества свободы. Я был приверженцем идеи
югославской монархии, присутствуя с делегацией молодежи на коронации
монарха Александра, но я разочаровался в идее монархизма. От пацифистских,
националистических и монархических иллюзий не осталось и следа. И я
счастлив, что Стою перед вами вместе с моими товарищами, вместе с теми,
кого вы подвергаете гонениям, кого вы предаете остракизму, и я готов
принять на себя всю меру ответственности за принадлежность к партии
коммунистов...
прошествии многих лет пришел к Кершовани в тюрьму и сказал, что у Наны
родилась дочь, Отокар задумчиво улыбнулся.
Нана назовет девочку Ириной.
"святая". Ирина - свободное имя, новое, не библейское, пусть и живется ей






 Шилова Юлия
Шилова Юлия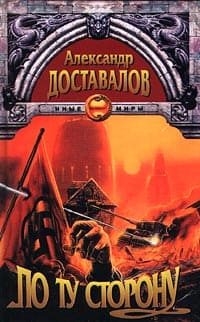 Доставалов Александр
Доставалов Александр Шилова Юлия
Шилова Юлия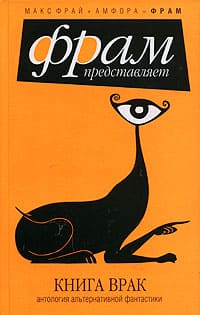 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий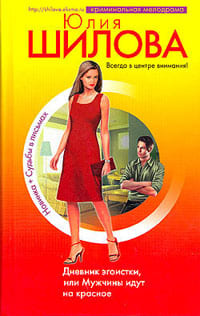 Шилова Юлия
Шилова Юлия