ним плохо. Ему нельзя быть одному... Я решу, что делать, и сообщу вам свое
решение чуть позже. Только не бросайте его, Бауэр, я вам доверяю его, друг
мой...
не стал. Попробовал прилечь на тахту, но лежать не смог, и он начал
вышагивать из угла в угол, по обыкновению заложив руки за спину. Поймал
себя на мысли, что комната, где он только что был, сбила его и он норовит
повернуть назад на десятом шаге, хотя его кабинет позволял делать двадцать
два шага, неторопливых, широких, размеренных.
когда предавался мечтаниям, сидя за конторкой в фирме дяди, в крошечной
фирме по продаже строевого леса. Он тогда постоянно мечтал, и он хорошо
запомнил эти свои грезы. Ему виделся успех, все время успех. Он видел себя
то военачальником, то знаменитым оратором в рейхстаге, то личным
секретарем Круппа. Особенно болезненно он грезил успехом после посещения
"синема". Он блаженствовал и сладостно замирал в своих мечтаниях, опуская
при этом одно лишь звено - действие, активное, самое первое, которое
единственно и может привести к успеху. На фронте он лез в атаку первым, но
орденами награждали тех, кто отсиживался в штабах и был на глазах у
командования; он был ранен, но его ранил тот, кто бежал следом, случайно
прострелив мякоть ноги, и Дорнброка чуть не упекли в тюрьму за
дезертирство. Вернувшись домой, он запил. Он не видел выхода. А в "синема"
по-прежнему показывали хроники, в которых выступали ораторы в рейхстаге,
ездил в закрытом автомобиле Крупп, безумствовали люди во фраках, когда в
"Ла Скала" выступал Шаляпин. Случай помог ему. Он был в Мюнхене в тот
день, когда Гитлер вышел со своими единомышленниками на улицы: "Работу -
немцам! Хлеб - немцам! Долой позор Версаля! Рабочий - хозяин фабрики,
крестьянин - хозяин земли! Вон коммунистов! Вон еврейских банкиров!
Германия - для немцев!"
"К богатству, которое дает силу, - через служение нищим". Именно тогда он
посетил Штрассера и организовал "Товарищество по кредиту". Он помогал
разорившимся лавочникам и хозяевам крохотных мастерских, он давал деньги -
практически без процентов - тем, кто разделял программу Гитлера. А потом
случилось то, о чем он и мечтать позабыл: умер дядя, и небольшое дело
перешло к нему. Он выгодно продал две партии леса и наутро, проснувшись,
понял, что стал богатым человеком. Через десять лет он был пятым по
богатству в рейхе. Фюрер вручил ему, беспартийному, золотой жетон
почетного члена НСДАП и сделал лауреатом премии Гитлера за "выдающиеся
успехи в организации народной промышленности".
Карла и двухлетнего Ганса в Италию. Он лежал на пляже вместе с ними,
седой, поджарый, слыша за своей спиной почтительный шепот: "Вон
Дорнброк... Дорнброк. Глядите, Дорнброк", но он смотрел лишь на маленькое
тельце Ганса, который счастливо смеялся, трогая ножкой теплое море. "Ну,
скажи морю "доброе утро", - говорил тогда Дорнброк и, подняв сына на руки,
вносил его в море, в это прозрачное, теплое, горькое море, и мальчик
судорожно обнимал его своими ручонками за шею и счастливо, чуть испуганно
смеялся, шепча: "Пойдем, где страшно и глубоко, папочка".
слушал речи Гитлера: "Дети Германии - это дети партии, это мои дети! Они
все одинаковы для меня, дети Германии!" Дорнброк думал: "Он говорит так,
потому что у него не было детей. Я могу умиляться дочкой Симменса, но
люблю я только своих мальчиков. Нет, я лгу себе. Я люблю маленького
нежного Ганса, который рисует журавлей и закаты над морем. Карл слишком
похож на меня, а любят всегда свою противоположность. Я смотрю на Ганса,
как на чудо. А Карл - это моя копия, я знаю, о чем он думает, про что
спросит и в чем он мне откажет".
вдвоем, потому что Карл дни и ночи проводил у себя в гитлерюгенде. Они
играли в карты по вечерам. Дорнброк знал, что Ганс ждет его - мальчик
очень любил играть в карты, - и поэтому отец пораньше сворачивал дела и
торопился к сыну. Однажды он поймал себя на мысли, что слишком жестко
играет с мальчиком и обрекает его на проигрыш, и ему стало так стыдно, что
краска залила лицо.
переступит порога его дома. Так было три года. Но потом он съездил в
Кенигсберг и там познакомился с фройляйн Гретой. Она была владелицей
салона красоты. Совсем еще молодая, эта женщина умела вести дело, была
очень мила, и взгляды их во всем совпадали. Он пригласил ее в Берлин. В
воскресенье он взял Ганса - мальчику было тогда шесть лет - и поехал к
Крюгеру, на Унтер-ден-Линден. Ганс смотрел на Грету необычными глазами:
они у него сузились, и красивое личико сына стало из-за этого уродливым и
жалким. Когда подали мороженое с вафлями, Ганс заплакал. Громадные слезы
капали в мороженое. Грета сказала: "Наш маленький Ганс не любит это
мороженое, Фриц, разве вы не видите!" - "Я вас не люблю, а не мороженое, -
ответил мальчик, - и еще я люблю папочку!"
какие-то нежные, особые слова - сейчас он не мог вспомнить эти слова. Он
просто чувствовал сейчас, какие это были нежные слова. Он сказал тогда
сыну, что они будут всегда жить втроем: Ганс, Карл и папа.
об его ухо! Это у них была такая игра: тереться носом об ухо и шептать
смешные, несуществующие слова...
слушал сказки братьев Гримм и Андерсена, и, когда вырос и учился в школе,
он все равно просил отца почитать ему и смотрел своими громадными голубыми
глазами куда-то поверх отцовской головы, не сразу замечая, когда отец
замолкал, любуясь сыном. "У него свои грезы, - думал Дорнброк, глядя на
лицо мальчика. - И пусть они не будут такими грустными, как мои в дни
моего детства".
дождь. Стекло было холодным, и наперегонки бежали капли дождя, сливаясь в
струйки, стремительно и ломко менявшие направление, и Дорнброк подумал,
что сейчас ему бы стало легче, если бы он смог заплакать. Но он давно
разучился плакать: когда другие находили выход горю в слезах, он цепенел
и, закрыв глаза, сидел недвижно часами. Так было в дни, когда погиб Карл;
так с ним было, когда русские вошли в Берлин...
видел лицо Ганса, бледное, осунувшееся, с синяками под глазами. - В чем? Я
жил для того, чтобы работать. Я посвятил себя тебе. Я лишил себя любви,
потому что мне была нужна лишь твоя любовь и твое счастье. Но, видимо, я
не вправе требовать от тебя того, чего я всегда требовал от себя:
ответственности, громадной, ежеминутной ответственности за дело... Ты
пришел к тому, что я создал. Я не провел тебя через трудности, через
лишения, и поэтому для тебя никогда не было счастьем получить автомобиль,
яхту или самолет. Для тебя эти блага, кажущиеся сказочными другим людям,
пришли как данность. Ты не знал пути к благу. Ты благом пользовался. И
лишь поэтому ты стал думать о средствах. Цель для тебя была схемой, потому
что это была не твоя цель. И может быть, я оказался твоим врагом, когда
просил тебя уйти из спорта и журналистики и умолил войти в дело. Да, в
этом я виноват перед тобой, больше ни в чем. Разве можно винить меня в
жестокости по отношению к одному или к десяти людям, если я хочу блага
всем немцам? В этом заключена высшая логика борьбы - это должно быть
понятно всякому человеку, который воспитан на ответственности перед
страной, нацией, перед богом".
он решил позвонить Бауэру.
телефонов: ведь звонят лишь мне. От меня звонят секретари".
наблюдательного совета его концерна: Людвиг Эрхард, бывший канцлер; Герман
Абс, владелец Немецкого банка; Фриц Шефер, возглавлявший министерство
юстиции; генерал Хойзингер... И ни одного телефона - только имена.
Он был неопределенным, этот страх. Дорнброк научился ничего не приказывать
и лишь в редких случаях подписывал документы, да и то единственно те,
которые носили общий характер: все конкретности уточняли затем эксперты и
советники. Они детально разрабатывали и проводили в жизнь ту общую
концепцию, которая заключалась в обтекаемых формулировках отправных
положений.
работа для Бауэра или Айсмана, а я хотел насильно провести Ганса сквозь
горькую тяжесть ответственности за будущее. В этом я виноват перед
мальчиком".
подробно объяснял шоферу, куда его следует отвезти - он запомнил дом Люса,
где беседовал с сыном. Улицы еще были пустынны, хотя рассвет уже сделал
город светло-дымчатым и солнце угадывалось за низким, в тяжелых тучах
небом.
Бауэра. Дорнброк нажал кнопку звонка, но ему никто не ответил. Он долго
нажимал кнопку звонка, и, чем дольше он нажимал эту маленькую красную
безответную кнопку, тем страшнее становилось ему, и он увидел себя со
стороны - старика в помятом пиджаке и в стоптанных башмаках на пустынной
улице, и ему стало мучительно жаль себя, и он впервые за последние
шестьдесят лет заплакал...



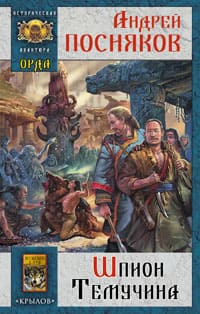


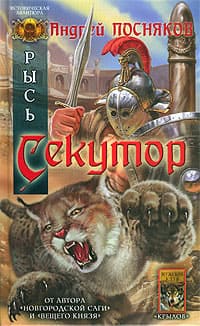 Посняков Андрей
Посняков Андрей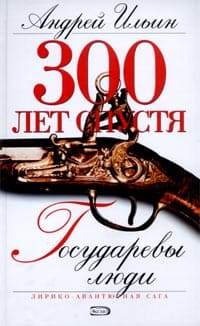 Ильин Андрей
Ильин Андрей Аникина Наталья
Аникина Наталья Свержин Владимир
Свержин Владимир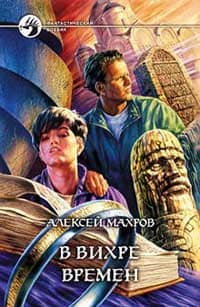 Махров Алексей
Махров Алексей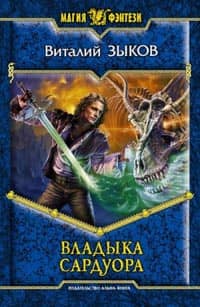 Зыков Виталий
Зыков Виталий