знакомых. Зал судебных заседаний - большие окна, всевозможные аксессуары
и, наконец, самый суд, состоящий из семи человек, прокурор, эксперты, поп
и ксендз, свидетели, защитники, близкие, родные. Приведение к присяге
свидетелей, экспертов и переводчиков, показания свидетелей, обвинительная
речь прокурора, требовавшего высшего наказания по второй части 126-й
статьи, заявившего при этом, что мы подвергаемся каре не для исправления,
а для устранения. Потом была речь Ротштадта, который сам себя защищал, и
выступления защитников. После более чем часового обсуждения был объявлен
приговор. Я получил ссылку на поселение, Ротштадт и Аусем - по четыре года
каторги, а Ляндау - год заключения в крепости.
доказано, что у социал-демократии Польши и Литвы не было складов оружия и
взрывчатых веществ, и достаточных доказательств моей и Аусема
принадлежности к партии тоже не было (Ротштадта еще в мае Палата в Люблине
приговорила к шести годам каторги; он сознался в принадлежности к партии,
но отрицал, что у партии есть склады оружия)... Нам вынесли приговор,
руководствуясь исключительно "голосом совести", а эта "совесть" оказалась
не менее чуткой к требованиям властей, чем "совесть" военных судей. Только
одного меня приговорили к ссылке на поселение, по всей вероятности,
потому, что им известно, что по другому числящемуся за мной делу они
смогут закатать меня на каторгу. Говорят, жандармы возбуждают против меня
уже третье дело.
закатают на долгие годы. Я не думал об этом, хотя у меня не было никаких
иллюзий относительно приговора. Я глядел на судей, на прокурора, на всех
присутствовавших, на стены, украшения, глядел с большим интересом, с
удовлетворением оттого, что вижу свежие краски, цвета, Других людей,
другие лица. Я словно присутствовал на каком-то торжестве - не печальном,
не ужасном, - на торжестве, которое меня вовсе не касалось. Мои глаза
насыщались свежими впечатлениями, и я радовался, и хотелось каждому
сказать какое-нибудь доброе слово.
хоронить.
вдруг окружили пятнадцать - двадцать жандармов, и вынутые из ножен сабли
блеснули перед нами в воздухе. Но это настроение рассеялось, как только
председатель начал читать приговор: "По указу его императорского
величества..."
каторга.
придется жить в тюрьме, день за днем, час за часом, - по всей вероятности,
здесь же, в Десятом павильоне, - мною овладевает ужас, и из груди
вырывается крик: "Не могу!"
гораздо худшие муки и страдания. Мыслью я не в состоянии понять, как это
можно выдержать, но я сознаю, что это возможно, и рождается гордое желание
выдержать. Горячая жажда жизни прячется куда-то вглубь, остается лишь
спокойствие кладбища. Если не хватит сил, придет смерть, освободит от
чувства бессилия и разрешит все. И я спокоен.
Судебную палату и прочитали приговор в окончательной форме. Оказалось, что
я признан виновным не только в принадлежности к партии, но и ко всему
тому, что голословно вменялось мне в вину - и в обвинительном акте, и в
речи прокурора. Так, например, в приговоре устанавливается как факт, что у
меня была связь с агитационно-пропагандистской комиссией партии, только на
том основании, что в письме одного из обвиняемых упоминалось об этой
комиссии, но в этом письме не было ни малейшего указания на какое бы то ни
было мое отношение к ней. Суд решил, что я разъезжал по партийным делам по
Польше и России, хотя не было ни малейшего доказательства и даже малейшего
указания, что я вообще разъезжал.
партии и моей деятельности в Польше фигурировали письма, написанные из
Кракова Краков входил в состав Австро-Венгрии] в Цюрих в 1902 году.
Прокурор мимоходом упомянул в своей речи, что эти письма были написаны из
Варшавы; при этом он подчеркнул, что мои действия в 1904 году не подлежат
амнистии по октябрьскому манифесту 1905 года. Блестящая речь адвоката М.,
доказавшего, что письма были написаны из Кракова и что они уже хотя бы
поэтому не могут повлечь за собой наказания, что амнистия распространялась
на эти проступки (тогда по манифесту были освобождены от ответственности
все обвиняемые в принадлежности к социал-демократии, так же как и
привлекавшиеся по делу варшавской типографии социал-демократов), оставлена
без ответа прокурором, настолько он был уверен в судьях, и судьи не
обманули возлагаемых на них надежд. Говорят, что один из судей на чье-то
выражение удивления по поводу суровости наказания ответил:
я хочу всеми мерами добиться замены второй части первой, учитывая, что
суду предстоит разбирать целый ряд подобных дел. Если ничего из моих
попыток не выйдет, то это будет доказательством того, что вся Судебная
палата руководствуется только местью.
Петербурга, по всей вероятности, благодаря настояниям Скалона и Заварзина.
К первому моему делу была применена статья 126-я только потому, что
обвинительный акт был составлен год тому назад, и потому, что военная
прокуратура отказалась принять это дело.
что доказательства настолько ничтожны, что не было уверенности, как
отнесутся к этому офицеры.
социал-демократов, захваченных на собрании. Приговор очень строгий. Четыре
человека - по шесть лет каторги, девять - по четыре года, шесть - на
поселение.
приговорили к четырем годам каторги, пятерых - к двум годам восьми
месяцам, остальных - на поселение.
девять.
идут на место казни солдаты, затем доносится беготня, слышно, как выводят
приговоренных из камеры в канцелярию, а затем из канцелярии со связанными
руками в тюремную карету. После этого целые дни - когда слышишь шагающие
отряды войск - кажется, что это опять ведут кого-нибудь на казнь.
четыре недели тому назад и посадили с другим товарищем. По-видимому,
сделано это для того, чтобы ограничить мою возможность агитировать
жандармов. Жандармы боятся разговаривать с сидящими вдвоем.
судом второй раз (теперь по обвинению в убийстве стражника, раньше - в
принадлежности к варшавской боевой организации ПСС), в субботу ее увезли в
ратушу. Теперь, говорят, она в "Сербии" (женская тюрьма) дожидается из
Петербурга решения об административной ссылке. В павильоне чуть ли не все
любили ее за веселый характер и за молодость, а многие влюблялись в нее,
черпая отсюда силы к жизни и наполняя свое время писанием писем и
изыскиванием способов их пересылки.
минуты, когда она пойдет на прогулку или будет возвращаться с нее.
Приходили в отчаяние, когда не получали писем или не могли их передать.
Тысячу раз решали уже не писать, порвать с ней. Я вспоминаю при этом
рассказ Горького "Двадцать шесть и одна".
получившая за это пятнадцать рублей, чтобы заключенные заводили с ней
романы и чтобы она могла этим путем выудить сведения у легковерных людей.
Но она недостаточно ловко это проделывала и немедленно же была
разоблачена. Она называла себя Юдицкой, письма для нее направлялись как
Жебровской, а жандармы именовали ее Кондрацкой. Во втором коридоре тоже
сидел шпион, выдававший себя за доктора Чаплицкого из Стараховиц Радомской
губернии. Оказалось, что он вовсе не знает этой местности. К нему
обратились за медицинской помощью: кто-то жаловался на болезнь почек. Он
предложил ему самому "прослушать" свои почки: "Если звук ясный,
отчетливый, тогда почки здоровые, если глухой - необходимо лечиться".
сняли.
он не убежал из лазарета. Врач будто бы сказал, что дольше месяца он не
проживет.
тоже очень плох, хотя и не подозревает этого. У него туберкулез.
Лобанов, производивший для нас покупки. Он сидит во второй камере. За что
арестован, не знаю. Жандармы теперь запуганы и боятся разговаривать с
нами; только по глазам можно узнать, кто сочувствует.





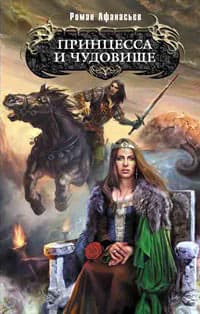
 Шилова Юлия
Шилова Юлия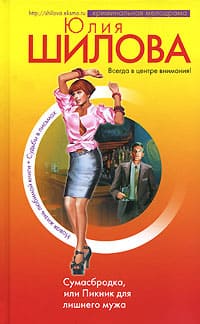 Шилова Юлия
Шилова Юлия Бажанов Олег
Бажанов Олег Суворов Виктор
Суворов Виктор Максимов Альберт
Максимов Альберт Круз Андрей
Круз Андрей