еврейства, не следует так презрительно говорить о русском народе и его
культуре... И отправил развернутое письмо Эрнсту Рему: "Нельзя третировать
русских; мой дед владел шоколадной фабрикой в Москве, теперь это "Красный
Октябрь". Отец нарисовал обертку шоколада "Золотой ярлык" - его и поныне
продают в магазинах; по-русски я говорю как по-немецки; поверьте, такая
позиция национал-социалистов недальновидна, нельзя отказываться от идей
Рапалло..." Меня срочно вызвали в Берлин - прислали телеграмму, что
умирает тетя... Я немедленно выехал; звоню в Штутгарт - тетя жива и
здорова, а у меня заграничный паспорт отобрали на перроне: "Вы посмели
выступить в защиту русских свиней и Рапалльского договора, который
подписал большевик Чичерин и наймит еврейского капитала Ратенау! С этой
минуты вы находитесь под домашним арестом! Это указание брата фюрера,
вождя доблестных СА партайгеноссе Эрнста Рема!" Каждый день ко мне на
квартиру приходил следователь, раскладывал свои бумаги и начинал мучить
дурацкими вопросами: "Составьте расчет ваших ежедневных трат в России.
Сколько денег вы отдаете за аренду квартиры?
будущее". В день, когда фюрер расстрелял Рема, следователь ко мне не
пришел... Не пришел и на следующий день... И через неделю не пришел, а я
все сижу в комнате, мне же сказали, что я нахожусь под домашним арестом, -
немец: "Орднунг мусс зайн!" ["Во всем должен быть порядок!" (нем.)] А
потом меня вызвал Гейдрих. Да, да! Тот самый! И сказал: "Изменник Рем
написал на вашем искреннем, но далеко не до конца продуманном письме
резолюцию: "Арестовать как врага нации!" Мы таковым вас не считаем, хотя
не разделяем вашей точки зрения. Вы же не член партии?" Я ответил, что не
состою ни в одной партии, кроме как в партии католической церкви...
Уехал в Китай, потому что возвращаться в паршивый рейх не мог, не терпел
нацистов... И писал из Шанхая и Токио в те немецкие газеты, которые еще
решались меня печатать... Тогда еще такое было возможно... Гитлеровцы
царствовали еще только четыре года и не успели превратить страну в
пронумерованный концентрационный лагерь... Кстати, только этим можно
объяснить феномен Рихарда Зорге... Я ведь был хорошо с ним знаком.
Немецкий посол в Японии Отт свел нас на приеме...
Рихард Зорге еще подписывал своим именем и фамилией заметки в журнале
"Коммунистический интернационал", открыто называл себя помощником
председателя ИККИ... А потом уехал в Китай и начал работать для немецких
газет... И для вашей разведки... А в сорок первом году, когда японцы
ударили по П"рл-Харбору и Германия вступила в войну против США, меня,
несмотря на то что жена была американка, из очень уважаемой семьи,
объявили немецким шпионом! И сделали это американцы, предписав объявить
полиции генералиссимуса Чан Кайши... Меня посадили в лагерь для
интернированных немцев. Под Шанхаем. До сорок пятого. А потом выслали в
Аахен. И там я год просидел в инфильтрационном лагере как бывший нацист. А
потом, когда был избран в Академию наук, стал советником канцлера
Аденауэра и начал выпускать журнал "Остойропа", ваши вновь назвали меня
"шпионом", только теперь уж не немецким, но американским... Что же
касается ответа на телефонные звонки:
примерно сто тринадцать соединений в день: "Здравствуйте, могу я
поговорить с Клаусом Менартом?" - "По какому вопросу?" - "Он написал книгу
о "новых левых", меня заинтересовало, где профессор почерпнул материал к
пятой главе, я заканчиваю диплом, хотелось бы получить информацию..." Ему
хотелось бы получить информацию, а мне семьдесят два года, и хотя я не
ощущаю возраста, но, согласитесь, каждая минута на счету... Поэтому я дал
свой деревенский номер "цвай-драй, цвай-зекс"
коллегам в Стэнфордском университете; если слышу своих - говорю, когда
звонят чужие - разговор автоматически прерывается".
позвонил в Кельн, в редакцию журнала АПН "Совет Унион хойте", и попросил
Володю Милютенко привезти меня к нему: "Я знаю книги Степанова, было бы
очень интересно встретиться с ним лично, я прочитал, что он сейчас в
Западной Германии, пожалуйста, приезжайте ко мне, жить будете в моем доме,
угощу мужским обедом, есть о чем поговорить... Добирайтесь до
Баден-Бадена, сворачивайте на Шварцвальд, зайдите в отель на выезде из
города, что напротив курортного комплекса, и попросите портье соединить
вас со мной. Я отвечу "цвай-драй, цвай-зекс", а вы отзовитесь:
"Милютенко". Через пятнадцать минут я приеду за вами, иначе вы запутаетесь
в наших маленьких лесных дорожках, их бесчисленное множество, не стоит
рисковать..."
водянистые, серо-прозрачные, настороженные, очень ц е п к и е, изучающие;
говорили о нашей литературе чуть не до утра, он выписывал все наши
журналы, они кипами валялись на диванах, полу, на подоконниках; в огромной
комнате, которая была и кабинетом и столовой, главным, определяющим ее
сущность, а значит, и сущность ее владельца был бронзовый бюст графа фон
Штауффенберга, подложившего мину под стол Гитлера в "Вольфшанце".
Клаус?!
называют "бег от-инфаркта] гарантирует мне еще по меньшей мере десять лет
творческой активности... И фаворитки, кстати, не жалуются. Мужчина
вневозрастен, если не курит, бегает, соблюдает разгрузочные дни и одержим
работой..."
пуст, нет света в окнах; о т с у т с т в и е; я просто не мог не приехать
сюда; с возрастом влечет к тем местам, с которыми связаны какие-то важные
этапы жизни; видимо, прикосновение к трагической памяти высекает
чувство... Письмо это я отправлять не стану, вряд ли дойдет, передам в
Москве, а может, и не передам, но все равно не могу не написать, больно уж
многое вспомнилось...
ч, говоря о нашей литературе! И это он, который по-русски говорил, как мы
с тобой! А другие? Чего от них ждать?
писатели не имеют права на свободу выражения собственной точки зрения?!
Партийный аппарат распределяет заказы на тематику!" - "И с "Хождением по
мукам" так было? И с "Разгромом"? И с "Лейтенантом Шмидтом" Пастернака? И
с Паустовским? С Леоновым?
про это открыто сказал миру на Двадцатом съезде? Мы, Клаус, мы сами!" -
"Вы меня, пожалуйста, называйте Николай... Николай Германович. Я очень
люблю свое русское имя. Меня маменька звала "Колечка". Я в Москве только с
русскими мальчиками играл. По-немецки говорили только за обеденным столом,
чтобы не забыть язык предков... Если бы не первая империалистическая, мы
бы никогда не уехали в Германию... Но в четырнадцатом, увы, нам пришлось.
А если не тогда, то в семнадцатом бы выгнали... Шоколадную фабрику деда
национализировали, дом отца заселили..."
хотелось бы увидаться". - "Приезжайте. Можно остановиться у меня, дом
достаточно большой". - "Но я никого не стесню?" - "А кого стеснять? Я пока
один". - "Ах, как это мило с вашей стороны! Тогда так: мой поезд выходит в
девять ноль три, в четырнадцать часов у меня обед с директором "Цайта"
графиней Марион. Он продлится до пятнадцати двадцати. Затем, в пятнадцать
тридцать пять, встреча в бундестаге с Циммерманом. Только, пожалуйста, не
браните его сразу. Он умный человек. Беседа будет продолжаться сорок
минут, пятнадцать минут на дорогу до вашего дома, значит, я приеду в
шестнадцать тридцать. Вас это устраивает? Если назначена какая-то встреча,
я готов обождать в буфете бундестага". - "Встречи назначено не было,
жду..."
Мне, между прочим, рассказывали, как в первые месяцы совместной работы с
итальянцами и немцами на строительстве Волжского завода наши шоферы
ярились: "Привез, понимаешь, цемент с опозданием на пять минут, а они не
берут! Что ж мне, выбрасывать его?!" - "Извольте соблюдать график!" Тогда
наши ребята решили ударить по перевыполнению: привезли цемент на пять
минут раньше срока. А те:
потеряет свои свойства". Ну, конечно же, шофера в райком: "Провокация!
Издевательство над русским рабочим!" Секретарь умный попался, ответил: "А
что б вам, ребята, не попробовать минута в минуту?! Неужели не под силу?!"
учиться, ибо понимал: пыжатся от дури и бессилия; русской вольнице
необходимо усвоить границы европейской временной организованности. Без
этого порядка в доме не наведешь... И как же отомстили ему, а?! Сразу же
после смерти столицу вернули в Москву, женщин перестали "пущать" в
ассамблеи, а дворянство сразу за свое: мы - самые-самые! Я, знаешь ли,
сейчас особенно много думаю о феномене Петра и о реакции на его
эксперимент, которая проявилась сразу после воцарения консервативной
партии... И знаешь, с чем вижу сходство? С судьбою теории относительности!
Ей-богу! На старости лет меня потянуло в ту науку, которую в школьные годы
боялся, а потому ненавидел. Нет, правда, страх и непонимание - два
основных побудителя ненависти. Если спроецировать трагедию послепетровской
России на историю с открытием Эйнштейна, то возникнут весьма любопытные
параллели, которые - в данном конкретном случае - безусловны... Отчего
люди с таким трудом воспринимали (да и, говоря откровенно, воспринимают)
теорию относительности? Потому что опыт человечества в течение многих


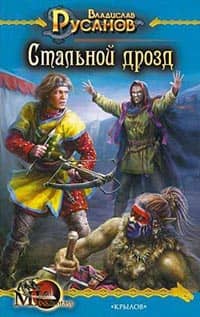
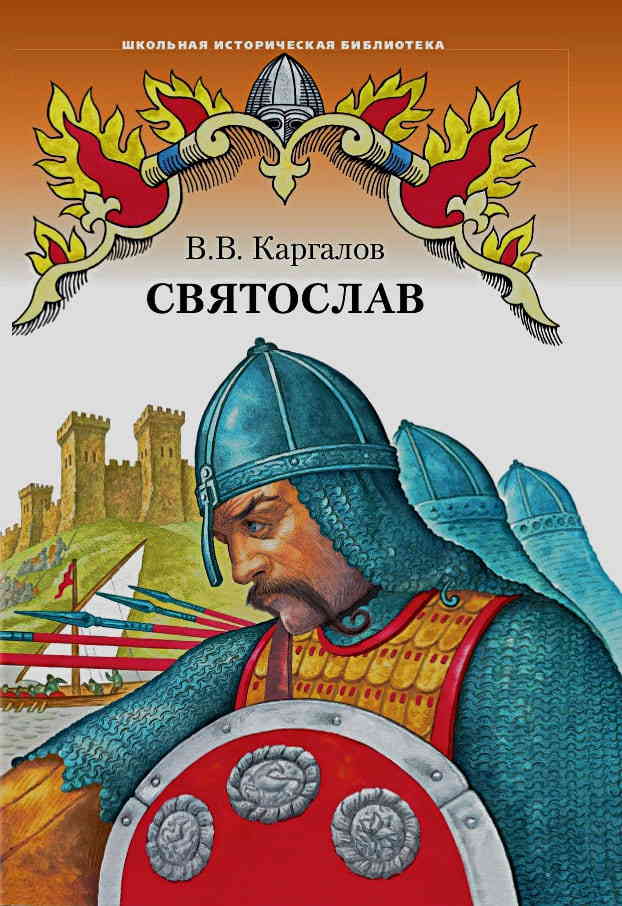
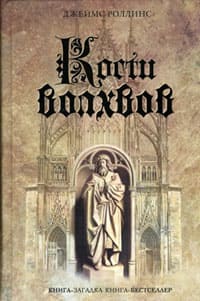

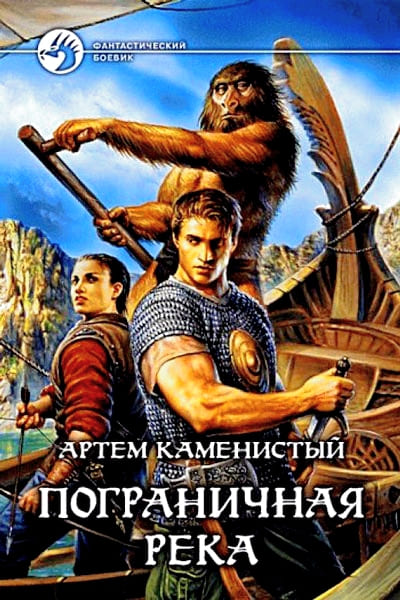 Каменистый Артем
Каменистый Артем Акунин Борис
Акунин Борис Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей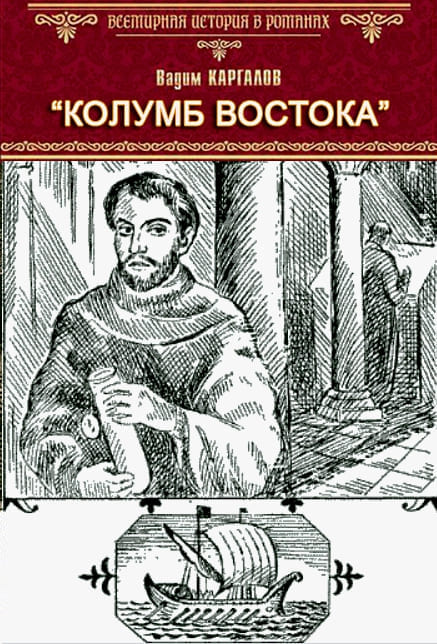 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Посняков Андрей
Посняков Андрей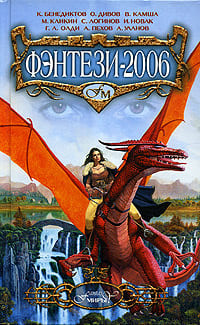 Пехов Алексей
Пехов Алексей