- Меня не за что привлекать к суду, я ни в чем не виноват...
- Мистер Прадо, каждый человек на этой грешной земле в чем-то виноват... Каждый... Без исключения... Меня, например, можно посадить на электрический стул, если поднять по дням всю мою жизнь, хотя я не брал взяток, не грабил банки, не насиловал девок, не бандитствовал на дорогах и не убивал министров... Но я жил и действовал, мистер Прадо, а жизнь - это преступление, я уже не говорю о жизни, полной активных поступке в... Вы, например, перестали ходить к Дону Хоакину после того, как его дочь Хосефина сделала от вас аборт, но доктор оказался малокомпетентным и женщина стала инвалидом - бесплодие, нарушение циклов и прочие бабские неприятности... Вы думаете, Дон Хоакин забыл об этом? Он помнит, - толстяк снова ткнул указательным пальцем в сколотые страницы, что лежали у него на коленях. - Он с радостью даст хоть завтра свои показания против того, кто совратил его дочь... Вы говорите, что страшитесь позора... Я верю вам... - Боу пролистал несколько страниц, у демонстративно слюнявя толстый, словно обрубленный указательный палец. - Вот, смотрите, мистер Прадо, это показание главного механика гаривасской электростанции... Вы же работали там директором, когда вернулись с дипломом инженера из Штатов, не так ли? Помните Хаиме Оярсабаля? Вами двигали благие порывы, вам хотелось дать рабочим премию к рождеству, но денег не было и вы пошли на то, чтобы вместе с Оярсабалем остановить два агрегата, дав ложные показания, что случилась авария и необходимо поставить рабочих на ночную смену, дабы не оставить город без света... А внеурочная ночная смена оплачивается в два раза выше, и за это рабочим полагается премия... Но и вам в том числе... А вы от нее не отказались... Я понимаю, мистер Прадо, вами двигали благие порывы, вы не могли отказаться, иначе бы подвели других, беззаконие порождает жульничество, но ведь это не довод в судебном заседании, это эмоции, а трибунал их не исследует, да и суд присяжных вряд ли стал бы копаться в этом... Незаконные деньги, и все тут! Или вот... - он снова полистал страницы. - Смотрите... Когда три месяца назад вы отправились в Милан для переговоров с Грацио, правительство выделило вам средства... По статьям... На телефонные переговоры, отель, транспортные средства, на представительские - надо же было устраивать коктейли и приемы... Ваш секретарь Габриэль Пратт дал вам расчет, на коктейли не хватало." И вы своей рукою, без согласования с правительством санкционировали мелкое жульничество: попросили одного из помощников Грацио, мистера де Бланко, взять на себя оплату отеля, но оставить счета вам и на эти деньги устроили прием... Я понимаю, что вы не положили себе в карман эти несчастные три тысячи долларов, я-то понимаю, что вы решились на это во имя дела, во имя того, чтобы прошел энергопроект Санчеса, но трибунал будет рассматривать документы и свидетельские показания, понимаете? Вот, мистер де Бланко показал, - ткнул Боу в страницу, - что он выписал чек за проживание вашей делегации в отеле... А это копии отчета, в котором вы подписали подлинность трат за отель из средств, отпущенных кабинетом... Ну, разве это не позор? Читать дальше?
- Фу, какая мерзкая грязь...
- Разве это грязь? Я не читаю вам других документов, мистер Прадо... Человек беспамятен, он отторгает в прошлое то, что ему неугодно или стыдно хранить в сердце... Я ж не привожу записи ваших бесед в кровати с женой... Каждый возбуждается по-своему, у всех у нас рыльце в пушку, но ведь не пойман - не вор, а если и этот ваш шепот сделать достоянием гласности? Дать прослушать трибуналу - а уж он-то прокрутит это по национальному радио, вот, мол, кто нами правил, - каково будет вашей маме? Детям? Той же жене...
- Дайте пистолет, - крикнул Прадо. - Я сам сделаю то, что надлежит мне сделать в такой ситуации...
- Вы не сделаете этого, - убежденно сказал Джеймс Боу. Во-первых, если вы произнесли слово "ситуация", значит, в вас по-прежнему живет логик, а не министр Санчеса... Во-вторых, когда ваш друг по колледжу Ромуло Батекур публично ударил вас по лицу за то, что вы отбили у него Магдалену, вы ведь не ответили ему...
Боу отошел к стене, где висела картина - сине-черная абстракция, стремительные, рвущиеся линии, чем-то похоже на ночную грозу в тропиках над океаном, - нажал своим нездорово толстым пальцем на раму, поманил Прадо; тот поднялся с подоконника и, ощущая ненависть к себе, приблизился к толстяку.
- Смотрите, - Боу кивнул на маленький глазок, открывшийся в холсте. - Там ваши знакомые, смотрите же...
И Прадо посмотрел.
В холле, почти таком же, как этот, где он только что перестал быть прежним Прадо, а сделался пустым, не ощущающим самого себя, разбитым, с дрожью в ватных ногах существом, сидели помощник Санчеса по связям с прессой капитан Гутиерес, министр продовольствия Эухенио и заместитель министра финансов Адольфо; они о чем-то быстро говорили, и, хотя лица их были бледны, они улыбались порою, жестикулировали, как живые люди; ни в одном из них не было видно слома, следов пыток, борьбы...
Прадо не смог сдержать слез, силы покинули его, и он тяжело обрушился на пол, выложенный сине-белыми изразцами, какими обычно украшают маленькие дворики в Андалузии, особенно в Севилье, по дороге к морю, к Малаге...
88
26.10.83 (18 часов 33 минуты)
- Я попробую положить "девятый" от борта налево в угол, сказал Санчес. - Как ты относишься к этому, вьехо?
- Отрицательно... Я почему-то думаю, что ты не положишь этот шар, Малыш. Знаешь, я однажды играл с русским поэтом Маякосски в Мехико, он приехал туда в двадцать пятом... Не помню точно, может, в двадцать седьмом году... Он революционер, но играл очень хорошо и однажды засадил вот такой же шар... Только очень долго мелил кий перед каждым ударом... Знаешь, он так смешно выцеливал шар... Выставлял нижнюю челюсть, она у него была тяжелая, сильная, не то что у тебя... И еще очень коротко стриженный. Ну, ладно, бей, я помолчу...
Санчес промазал, сделал подставку; "одиннадцатый" стал на удар.
- Ну, что, Малыш, конец тебе? - вздохнул Рамирес. Такого игроки не прощают... Могу пощадить, если велишь взять Пепе солистом...
- Я, наверное, не успею его послушать сегодня, вьехо, ответил Санчес. - Давай обставляй меня, и я поеду... Много дел...
- Он сейчас должен быть здесь...
- Тогда не торопись меня облапошивать, - вздохнул Санчес. - Проигрывать - даже тебе - обидно.
Старик собрался перед ударом, рука перестала трястись, глаз сделался беличьим, чистая бусинка; кляц; шар лег, словно в масло.
- Видишь, как надо бить, - сказал Рамирес. - Учись, пока я живой. Хочешь, чтобы я включил ящик? Утром дикторы объявили, что будет выступать твой министр Лопес...
- Я могу тебе сказать, о чем он будет говорить на телевидении, - Санчес пожал плечами.
- Он действительно против тебя, как говорят люди?
- Какие люди так говорят? Где? В этом вашем клубе?
- И не только. В кафе на Пласа де Хинос тоже говорят так... А там собираются шоферы и грузчики, они не вхожи сюда...
- Ну, а ты как думаешь?
- Сначала я положу "седьмой" в середину одним касанием, очень красиво, отведу свой для удара по "десятому", а потом отвечу тебе, седой Малыш...
Он положил шар, отвел свой на новый удар и полез за сигарой.
- Хочешь? - спросил он Санчеса. - У меня еще три штуки, очень хороший табак, я полощу им рот, укрепляю десны... Я думаю, Малыш, сейчас начался такой бардак, что разобраться ни в чем нельзя, но ведь, если много говорят, значит, есть что- то...
- Когда есть, вьехо, как правило, никто никому ничего не говорит...
- Это у янки или немцев, они другие, северные, у них кровь тише течет, а мы южные, у нас что на сердце, то на языке... Я когда-то играл с людьми, которые воевали против Франко... Они говорили, что им было все известно в окопах о том, какие дела творятся в Мадриде... Там же были анархисты, коммунисты, республиканцы, поумовцы [троцкистские группы]. Все дрались за свое, и еще за неделю до того, как менялось правительство, люди знали имена новых министров...
- А в Чили ничего не знали, вьехо...
- Это точно, - согласился старик, - там Пиночет стоял на трибуне рядом с Альенде, там все было тихо, только богатые бабы ходили с кастрюлями по улицам... У нас тоже пойдут, говядина снова подскочила в цене...
- Кто у нас ест ее? - Санчес пожал плечами. - Ты? Так ты игрок. А грузчик?
- Тот, который умеет воровать, ест... Малыш, я тебя люблю, ты очень добрый, разве допустимо быть добрым правителем, так не бывает, может, тебе пришло время стукнуть кулаком по столу, а?
- Это теперь не страшно, все стали смелые, вьехо, мы же отменили беззаконие, теперь никто ничего не боится, понимаешь? И это прекрасно, потому что счастье могут построить только люди, которые не знают страха.
- Будет бардак, Малыш, наши люди любят строгость.
- После того, как они прожили эти восемь месяцев без страха, одной строгостью ничего не добьешься, вьехо... Всего можно добиться только так, чтобы человек шел на работу с радостью и убеждением: "Я получу столько денег, что смогу не только купить бутылку себе и чулки жене, но и сэкономить маленько, и еще отложить на отпуск или на то, чтобы начать свое дело, или на то, чтобы отправить ребенка учиться в колледж в Европу, пока у нас мало своих..."
- Ты Дон Кихот, Малыш, не сердись, но люди уважают только одно - силу... - Ты всегда был таким сильным, а сейчас словно женщина...
Санчес рассерженно поставил кий.
- Ну, чего ты хочешь?! Чего вы все хотите?! Чтобы я ввел комендантский час?! Запретил газеты?! Хватал на улицах за шутку в мой адрес и бросал в тюрьму? Вам что, надо жить согнувшись?! Только тогда вы будете спокойны над вами есть власть?!
В зал вошел начальник охраны Карденас.
- Мигель, там "красные береты" задержали трех музыкантов, они говорят, ты их ждешь...
- Я их жду, - ответил Санчес. - Позвони во дворец, мы через пятнадцать минут выезжаем, пусть вызывают Педро с его отчетами... Как прошло выступление Лопеса? Ты посмотрел в гостиной?
- Выступление перенесли на полчаса, я звонил в канцелярию Лопеса.
Санчес удивился.
- Отчего?
- Полетела аппаратура на радиостанции, заканчивают ремонт, дурни нерасторопные... Сейчас я приведу музыкантов...
- Это мой внук Пеле, - пояснил Рамирес майору Карденасу, - он задержит Мигеля на пятнадцать минут, послушай, как он поет.
Карденас пожал плечами, вышел; старик приблизился к Санчесу, положил свою узловатую дрожащую руку на его плечо.
- Не сердись, Малыш, просто я думаю, что ты еще не научился этому делу - управлять другими - и вряд ли научишься, такая это паскудная работа... Выпьешь кампари?
- Нет, не хочу. Выпью холодной минеральной воды. Или лимонного сока... Что-то у меня тяжело на сердце, вьехо... Жмет, жмет... Будто его в руку взяли и пробуют на вес...
- У меня так было, когда Пепе читал вслух книжку одного бородатого янки про то, как наш старик ловил в море агуху [меч-рыба (испан.)] и как ее поедали, ходер [ругательство (испан.)], жадные акулы... Перед ударом всегда следует маленько поговорить, тогда в тебе начинается тоска по делу... Слово - это леность, Малыш, только удар - дело, даже по такому дерьмовому шару, как "тройка", но ведь без него не наберешь пирамиду...
Он красиво положил шар, такой же, как и другие, только с цифрой "три"; черт возьми, подумал Санчес, какая, казалось бы, разница между этим шаром и тем, "тринадцатым", что теперь стоит у Рамиреса на ударе в середину, ан нет, совершенно иное качество, значение, вес... Стоит соскоблить с "тринадцатого" единицу, а к этой тройке пририсовать единицу, и значение изменится, не сотвори себе кумира, воистину так...
- Сейчас я заберу "тринадцатого", - сказал Рамирес. - Ты заметил, Малыш, что все шары на столе одинаковые от создания своего, а любим мы их по-разному?
Санчес рассмеялся,
- Я только что думал именно об этом, вьехо, прямо слово в слово, как ты сказал.
- У меня это часто было с моей мухер [женщина, жена (ислам.)]... Это бывает, если веришь; мы умеем верить и тогда начинаем думать про одно и то же... А ты читал книгу про этого старика в море?
- Да, - ответил Санчес. - Того янки, что написал книгу, звали Хемингуэй.
В это время Карденас привел Пепе с гитаристами.
- Здравствуйте, гражданин премьер, - сказал Пепе.
- Добрый день, - повторили Ромеро и Бонифасио в один голос.
Санчес улыбнулся.
- Музыканты, а говорите словно солдаты, приветствующие командира... Давайте, ребята, я к вашим услугам. У меня есть десять минут, не больше...
Гитарист Ромеро глянул на свои большие часы, в них был вмонтирован передатчик; когда они шли по парку "Клаб де Пескадорес", он первым делом посмотрел, стоит ли у пирса белый катер с включенным движком; стоял именно там, где должен был, тютелька в тютельку на том месте, которое обозначено на картах, когда репетировали операцию; и капитан был тот, которого им описывали: с рыжей бородой, в белом костюме, с золотым браслетом на левой руке; с катера поступит команда, часы пискнут; это значит, надо доставать "шмайссеры" и кончать полковника, иха де пута [распространенное ругательство (испан.)], красный, наемник Кремля...
Гитаристы молча, неторопливо и сосредоточенно достали свои громадные старые, а потому особенно красивые гитары из огромных, тяжелой кожи чехлов и одновременно - в долю секунды одновременно - прикоснулись к струнам; звук родился густой, осязаемый, дрожащий.
Это была проба; Ромеро взглянул на Пепе, кивнул ему, тот начал; Бонифасио подхватил: "Песня революции..."
...Катер был уже в миле от пирса; капитан, Густаво Карерас, посмотрел на карту - до нейтральных вод оставалось совсем немного; впереди, в семи милях, стоял американский сторожевик; через две минуты можно давать команду на действие; пусть потом ищут катер; наверное, можно снять трагикомедию о том, как эти мулаты будут метаться по пирсу...
- Гитаристы мне очень нравятся, - сказал Санчес. - Спой что-нибудь еще, Пепе... Только отчего ты стоишь, словно проглотил аршин? Ты же поешь, это такое счастье, если человек умеет петь... Может быть, тебе лучше ходить по комнате? Статика связывает... Ты слышал такое имя Станиславский?
- Нет.
Ромеро тронул струны, звук поплыл по комнате. Он боялся, что с секунды на секунду запищат часы; сигнал; услышит тот бугай, что возле двери; это плохо, когда две цели в разных направлениях; конечно, все срепетировано, Бонифасио станет бить в охранника, но все-таки однонаправленность действия всегда надежнее.
Бонифасио сразу же понял Ромеро; тоже тронул струны; мелодия была стремительной.
- Станиславский был великим режиссером, - продолжил Санчес. - Тебе надо почитать книги про театр, Пепе... А то будет трудно проходить конкурс... Так вот, Станиславский учил своих артистов: если тебе трудно понять роль, ищи приспособление... Помнишь Каренина, мужа Анны?


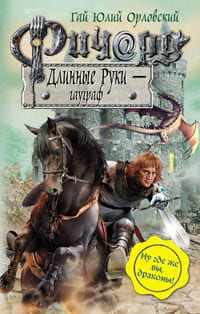



 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Посняков Андрей
Посняков Андрей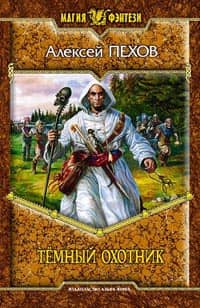 Пехов Алексей
Пехов Алексей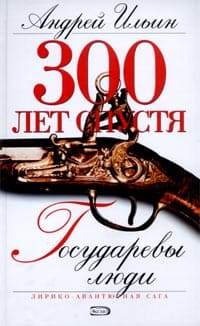 Ильин Андрей
Ильин Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Акунин Борис
Акунин Борис