отвязаться от математички.
Германию, понимая, как это сложно в создавшейся ситуации и чем это может
ему грозить. Однако, если Юстас чувствует в себе силы, то Центр, конечно,
был бы заинтересован в его возвращении в Германию. При этом Центр
оставляет окончательное решение вопроса на усмотрение товарища Юстаса,
сообщая при этом, что командование вошло в ГКО и Президиум Верховного
Совета с представлением о присвоении ему звания Героя Советского Союза за
разгадку операции "Санрайз Кроссворд". Если товарищ Юстас сочтет возможным
вернуться в Германию, тогда ему будет передана связь: два радиста,
внедренные в Потсдам и Веддинг, перейдут в его распоряжение. Точки
надежны, они были "законсервированы" два года назад.
есть десять минут, тогда я напишу маленькую записочку.
адреса. Адрес знают в Центре, там передадут.
Курил он неумело, отметил для себя Штирлиц, видимо, недавно начал и не
очень-то еще привык к сигаретам: он то и дело сжимал пальцами табак,
словно это была гильза папиросы.
маленьких листочка. - Пусть обидится, а сказать надо".
отличается от папиросы.
курят именно так.
Молодец. Не сердитесь.
значение этого русского слова.
днях, но, вероятно, это произойдет несколько позже..."
Сашеньке. Видения пронеслись перед его глазами: и его первая встреча с ней
во владивостокском ресторане "Версаль", и прогулка по берегу залива,
первая их прогулка в душный августовский день, когда с утра собирался
дождь, и небо сделалось тяжелым, лиловым, с красноватыми закраинами, и
очень белыми, будто раскаленными далями, которые казались литым
продолжением моря.
японских в сине-красно-желтые цвета, только вместо драконов носы шаланд
украшались портретами русоволосых красавиц с голубыми глазами.
них были тупорылые, жирные - тунцы. Паренек лет четырнадцати варил уху.
Пламя костра было желтоватым из-за того, что липкая жара вобрала в себя
все цвета - и травы, и моря, и неба, и даже костра, который в другое время
года был бы красно-голубым, зримым.
коли молодо - так оно ж и зелено. Не побрезгуйте откушать?
Сашеньке. Исаев тогда внутренне сжался, опасаясь, что эта утонченная дочка
полковника генерального штаба, поэтесса, откажется "откушать" ухи или
брезгливо посмотрит на немытую ложку, но Сашенька, поблагодарив,
отхлебнула, зажмурилась и сказала:
привычку, мы морем балованы.
звездную уху, - очень красиво, дедушка.
зубов, - я же по-простому говорю, как внутри себя слышу.
не стертые.
руки тычешь, а слово - оно ведь будто воздух, летает себе и веса не
имеет...
экспозицию полотен семнадцатого века - заводчики Бриннер и Павловский
скупили эти шедевры за бесценок в Иркутской и Читинской галереях. На
открытие приехал брат премьера, министр иностранных дел Николай
Дионисьевич Меркулов. Он внимательно осматривал живопись, щелкал языком,
восхищался, а после сказал:
полюбуйтесь - такие картины уже двести лет назад рисовали! И похоже, и
каждая деталь прописана, и уж ежели поле нарисовано - так рожью пахнет, а
не "Бубновым вальтом"!
тихо, словно бы самой себе, но Максим Максимыч услышал ее и чуть пожал ее
пальцы.
накрыты столы для прессы и дипломатов.
газетчиков. - Культурнейший же человек Меркулов! Воспитанный,
образованный! Интеллигент!
лесной заимке, когда она сидела возле маленького слюдяного оконца и была
громадная луна, делавшая ледяные узоры плюшевыми, уютными, тихими. Он
никогда раньше не испытывал такого чувства покоя, какое судьба подарила
ему в тревожную, трагическую ночь...
карандаше, и акварелью. Однажды он пробовал писать ее маслом, но после
первого же дня холст изорвал. Видимо, само Сашенькино существо
противоречило густой категоричности масла, которое предполагает в портрете
не только сходство, но и необходимую законченность, а Сашеньку Штирлиц
открывал для себя наново каждый день разлуки. Он вспомнил слова, сказанные
ею, семнадцатилетней, и поражался - по прошествии многих лет - глубине и
нежности ее мыслей, какой-то их робкой уважительности по отношению к
собеседнику, кем бы он ни был. Она и жандармам-то сказала тогда: "Мне
совестно за вас, господа. Ваши подозрения безнравственны".
развалах, он случайно прочел в растрепанной книжечке: "Мне хочется домой,
в огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь,
огнями улиц озарюсь..."
первый раз, когда, вернувшись из первой своей чекисткой поездки за кордон,
увидел могилу отца. Старик начинал с Плехановым. Его зарубили казаки
осенью двадцатого года. Он заплакал, когда остался один, плакал по-детски,
жалобно всхлипывая, но не этого стыдился он, а просто ему казалось, что
его горе должно жить в нем как память. "Максим Иванович" принадлежал
многим людям, а вот память о "папе" принадлежала ему одному, и это была
особая память, и подпускать к ней Штирлиц никого не хотел, да и не мог. А
тогда в Париже, на книжном рынке, он заплакал неожиданно для самого себя,
потому что в этих строках увидел чувство, которое было так нужно ему и
которое он - за всю жизнь свою - так и не пережил, не ощутил. За строчками
этими он увидел все то, что он он так явственно представлял себе, о чем он
мечтал, но чего не имел ни одной минуты.
день и час - семнадцатого октября сорокового года он пересекал
Фридрихштрассе и вдруг увидел Сашеньку, и как у него заледенели руки, и
как он пошел к ней, забыв на мгновенье про то, что он не может этого
делать, и как, услыхав ее голос и поняв, что это не Сашенька, тем не менее
шел следом за этой женщиной, шел, пока она дважды не обернулась удивленно,
а после - рассерженно.
и ему обещали это, но началась война...
в слова?
как прозу, в строку, но потом понял, что делать этого нельзя, потому что
умный враг и эти стихи может обратить в улику против парня, который пьет
апельсиновый сок и курит сигарету так, как это сейчас модно там, где он
сейчас живет. И он положил этот листок в карман (машинально отметив, что



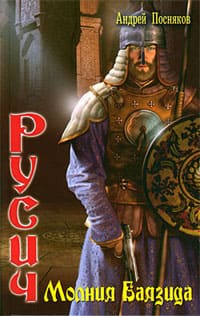


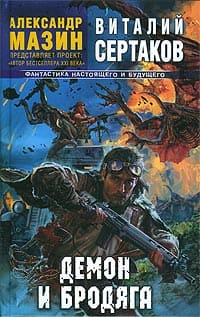 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий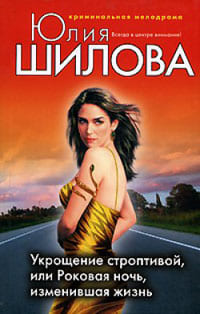 Шилова Юлия
Шилова Юлия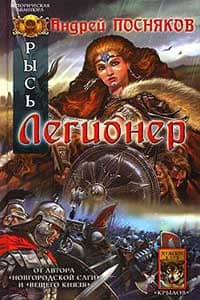 Посняков Андрей
Посняков Андрей Никитин Юрий
Никитин Юрий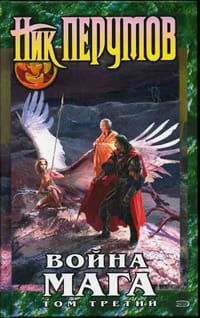 Перумов Ник
Перумов Ник Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс