были забронированы с соблюдением обязательной субординации: отдельное купе
для Штирлица и рядом, тоже отдельное, - для Омельченко с Еленой.
выдачу продуктов урезали: начиная с марта на человека выдавали по
карточкам два с половиной килограмма хлеба в неделю, полкило мяса и всего
двести пятьдесят граммов маргарина.
бело-розового сала, порезала его тонкими ломтиками, и стол сделался иным,
домашним, милым.
повернувшись к нему, заметила Елена, предлагая мужчинам приступать к еде.
Омельченко и шумно распахнул свой толстый, свиной кожи портфель.
хорошо притертой пробкой".
вырезанной из дерева, - носатый черт с красными глазами, который
отчаянно-дерзко показывал длинный синий язык.
Лучше не бывает.
никакая это не гетманская горилка, а обыкновенное берлинское эрзац-пойло.
лучше. Есть люди, которые п р и в и р а ю т в малости, но не для
собственной выгоды, а во имя общего блага. В таких людях много от
детского: ребята ведь врут, как правило, не сознавая лжи, потому что для
них игра - продолжение жизни, а вымысел - грань правды".
движением положил кусочек сала на сухую галету и понюхал.
в поместье деда. Разве там этакие кусочки отрезали? Во, - он показал
ладонь, - и не меньше. А цибуля какая, боже ты мой!
словно патока. А хлеб?! Каравай разломят - дух мучной, словно утренний пар
поднимается, полем пахнет, озимью, миром.
прежней странной усмешки на лице женщины.
какой-то миг замер, будто натолкнувшись на невидимую преграду. Лицо его
враз осунулось, стали заметны отеки под глазами и нездоровая припухлость
век. Но это было одно лишь мгновение, а потом он снова скрыл себя,
заулыбался и начал говорить, что никакой он не поэт, а так, издатель, что
поэзия - испепеляющее и единственное, а он отдает все свое время борьбе с
большевизмом и лишь крохи сэкономленного досуга - рифмоплетству.
н о с и т.
большой кучи конского навоза, которую дурной хозяин долго на поле не
вывозит: все должно перегорать в настоящем времени, иначе пропадет.
спрашивая, он пристально смотрел на Елену, она не усмехнулась отстраненной
своей, умной и горькой усмешкой.
рюмкам.
слышат.
зная, что Омельченко вошел в круг п о с в я щ е н н ы х.
понимает, так что можете быть спокойны.
жизнью, словно бы не связанные с ее лицом.
женщина, - наверняка все чувствует, но говорить можно, не опасаясь, что
поймет.
- он за галетой тянулся. - Не понял, простите.
мы.
них.
зубы.
пытался учить язык фрау Елены, но у меня ничего не вышло. Спокойной ночи.
Давайте отдохнем - завтра будет тяжелый день. Спасибо за великолепный
ужин.
думал, что за перегородкой, где громко говорило неспроста включенное
радио, ехал маленький квислинг, которого он, Штирлиц, должен держать при
себе и с ним обсуждать проблемы ближайшего будущего, связанные со статутом
оккупационного режима на его, Максима Исаева, родине. Иногда все
происходящее казалось ему нереальным, невозможным, диким, следствием
усталости и разошедшихся нервов, но он обрывал себя, когда кто-то другой
начинал в нем так убаюкивающе думать, ибо все происходившее было правдой,
и он знал это, как никто другой.
сведено напряжением, как оно ощущает тяжесть простыни, жесткость подушки и
клочковатую неровность тонкого волосяного матраца. - Он может жаловаться
кому угодно. Я обязан стоять на своем. Я солдат фюрера, а не политикан. А
фюрер всегда говорил о завоевании восточных территорий для нужд
германского п л у г а. Восток - это жизненное пространство, необходимое
для выведения арийской расы. Славяне - в раскладе расовой политики - идут
после евреев и цыган: неполноценное племя, обреченное на вымирание и
частичное онемечивание. Неужели Омельченко не знает про это? Хотя, может,
и не знает - не зря здесь издан приказ, запрещающий допуск иностранцев к
партийной литературе. Наивно? Черт его знает. В чем-то наивно, но по
остзейской, тяжелой и медлительной, логике разумно. У несчастного
эмигранта своих забот по горло, а тут еще бегай, доставай книгу! Зачем?
Информация только тогда опасна, когда она целенаправленна. А так - утонет
в ней человек, только пузыри пойдут. Из миллиона - один, кто может понять.
Но этот один в картотеке гестапо. Следовательно, этот один - агент. Или
сидит в концлагере, если позволяет себе роскошь думать. Третьего не дано.
Занятно, что к националистам льнут в первую очередь несостоявшиеся
литераторы. Чем это объяснить? Жаждой силы? Желанием приобщиться к
политике, которая так богата сильными ощущениями? Или все проще? Считают,
что, завоевав м е с т о под солнцем, они с немецкой помощью заставят
поверить миллионы украинцев в то, что именно их "творчество" гениально?"
явственно услыхал голоса Омельченко и Елены. Перегородки между купе были
тонкие, фанерные, поэтому Штирлиц слышал каждое слово. Разговаривали они,
видно, давно - для этого и включили радио, но сейчас в пылу спора они не
обратили внимания на то, что голос диктора исчез и стало тихо, только
колеса перестукивали на стыках.
жалостливым голосом, но тем не менее зло и убежденно говорил Омельченко, -
тебе нравится молчаливый, сильный, высокий, седой. А у меня шея потная! И
тороплюсь вечно! И нечего все на меня валить! Нечего меня винить в том,
что жизни у нас нет!
дикими п р е д с т а в л е н и я м и!
к кому. К какой-то жирной старухе! Это ведь ужас был какой-то, ужас!
мне. А сейчас - чем дальше, тем горше - тебе этой своей любви жаль. Ты
жила в другом мире, иначе воспитана была, республиканка при дедушкиных
тысячах, а вот пришел хохлацкий разночинец, взбаламутил воду, вскружил
голову... Эх, чего там...
венцу.
твоем слове, взгляде, жесте - жалоба на меня, на детей, на всех нас, кого
тебе приходится тащить.
Елена. Ты говоришь мне: "Брось все". А что ты будешь есть, если я все
брошу?! Чем ты будешь кормить детей?






 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Ковальчук Вера
Ковальчук Вера Березин Федор
Березин Федор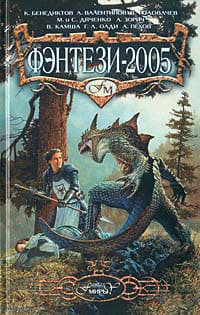 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Витковский Евгений
Витковский Евгений Шилова Юлия
Шилова Юлия