Виктор СМИРНОВ
ТРИНАДЦАТЫЙ РЕЙС
смотрел на корабли, сгрудившиеся у причалов. Ветер лохматил его рыжую
бороду. Это была великолепная борода, сам огненный Лейф Эриксон позавидовал
бы такой.
виден город и порт. Улицы, выгнув спины, сбегали к темной воде и смыкались с
ней.
Может быть, он и впрямь был Лейфом Эриксоном? Только человек с такими
глазами мог открыть Америку, когда она никому не была нужна, за пять веков
до Христофора Колумба.
Это были морские волки на пенсии, все повидавшие и ко всему привычные,
похожие друг на друга, как близнецы: так обтесал их ветер.
переулка, - добавил он и снял черную ладью.
переглянулись. Очевидно, они сочли меня гостем их таинственной, пропахшей
морем страны. Гость требует внимания и дружелюбия.
знает. Может, больше, чем все наши слова.
Ньюфаундленда. Шторм был сильный. Он приходит сюда, когда возвращаются суда
из океана.
маленькие рядом с океанскими сухогрузами. Носы кораблей были горделиво
задраны, там, на высоких площадках, торчали гарпунные пушки, а у пушек
стояли гарпунеры.
горку. Китобойцы салютовали. Бух-бам!
внимания.
понимал, что этот город достоин уважения и любви, и я хотел любить его, но
еще не мог...
была единственная улица в городе, которую я успел изучить как следует.
Гранитная лестница со стертыми ступеньками, фонтан с амурчиками - средний,
упитанный амурчик серьезным выражением лица напоминал майора Помилуйко; еще
ниже, после блочных домов, площадь, где стоял памятник князю Мирославу,
величавому и немного грустному человеку в шишаке. Князь Мирослав,
прорубившись сквозь лесную чащобу к Балтийскому морю, сумел заложить город,
но не смог отстоять его от ордена.
штандарты, геральдические знаки, выпушки, петлички, много раз приходил сюда.
Жег наше, строил свое... Последний раз орден пришел под знаком свастики.
а дальше, заслоняя залив, темнела громада форта, выстроенного во время
очередного нашествия, - до сих пор за ним сохранилось нелепое наименование
Кайзеровского. Он был вместителен и мрачен, как склеп, сооруженный в расчете
на целое государство; у каменных разбитых стен плескалась вода, покрытая
ряской, а зубчатые башни нависали над улицей, как мифические чудища. Из
выбоин тянулись тонкие белые стволы березок. Они словно брали приступом
отвесные стены.
Пахло рыбой, мазутом, сырой древесиной. Мигали круглые глазки иллюминаторов.
Ветер дышал близким морем. Из тонких камбузных труб сочился дымок, кое-где
над палубами трепыхалось белье. Это был мир уютного кочевья.
который только играет роль, а настоящим, и жить в этом мире и больше нигде.
Драить палубу, грузить целлюлозу, стоять вахту. Славно, спокойно...
прожекторной башни, в сумрачном портовом уголке. Белый борт смутно отражал
далекие огни.
Скучное, даже немного ненужное задание, которое я выполнял, подходило к
самому концу.
трагедией. Чуть позже мне пришлось восстанавливать в памяти все события,
предшествовавшие неожиданной развязке, но то - позже, а в эту минуту я
подходил к "Онеге" ставшим уже привычным маршрутом. Откуда мне было знать о
резиденте Лишайникове и его связном по кличке Сильвер, который умел делать
все, что должен делать классный разведчик, и .обращался со скорострельным
"карманным" автоматом типа "стэн" с такой же легкостью, с какой обращаются с
суповой ложкой?
крутились гигантские колеса; китобойные суда только что вернулись из
гремящего океана; пенсионеры играли в шахматы, а на кирпичной, выщербленной
стене Кайзеровского форта трепетали березки...
"Онега", чтобы начать новую, матросскую жизнь.
осваивать иную планету... Я думал, что всю жизнь проживу в Сибири, под ее
небом, таким высоким в осенние дни, когда солнце плавит иней на траве, а над
Байкалом стоят клубы пара, сквозь которые изредка проглядывает темная вода,
и сопки так четко вырисовываются на голубом небе, что, кажется, рукой можно
достать до любой вершинки.
из Колодина, но не приехала. Прислала письмо. Я запомнил его наизусть:
останется со мной. Но я не приеду. Вчера Жарков разбился на мотоцикле. Я
рассказала ему обо всем, а вечером он разбился, пьяный. Всю ночь просидела у
его постели в больнице. Он сказал, что не сможет жить без меня, я знаю, что
это правда. В сущности, он очень слабый человек. Я не могу просто так
перешагнуть через него и выбросить из жизни за ненадобностью. Для того чтобы
быть счастливой, мне надо стать жестокой. Наверно, я очень патриархальная,
как весь наш Колодин. Не могу. Буду мучиться и тебя мучить. Прости".
моих неладах с майором Помилуйко, сказал: "Уезжай, Паша. Ты поработал здесь
достаточно. Надо расширить горизонт". И вот в жаркий полдень я подходил к
"Онеге", размышляя о том, как это трудно - уехать от родных мест.
романтических поединков с морской стихией. Это судно принадлежало к
"озерному типу" и совершало плавания в Западную Европу частью по каналам и
рекам, частью в тихую погоду по заливу.
Петровский... На носу судна, свесив голые ноги, сидел здоровенный матрос в
тельняшке, джинсах и еще в очках с толстыми цилиндрическими стеклами.
босых ног и прочитал название книги: "Богословско-политический трактат",
Бенедикт Спиноза. "Если матрос занят Спинозой, что же тогда читает капитан?
- подумал я. - Может, это образцово-показательное судно, борющееся за звание
самого начитанного?" Во всяком случае, о показухе не могло быть и речи: если
человек читает философскую книгу на таком солнце, значит, это ему
по-настоящему интересно.
увеличительных стекла, сквозь которые глядели на меня неестественно крупные
зрачки, не могли испортить первого впечатления.
дойти до всего.
спортивная фигура странным образом не вязалась с крупнокалиберными очками,
которые уместнее были бы на носу архивариуса, растерявшего зрение в книжных
закоулках. Лицо матроса, в мелких-мелких точечках, пересекали два светлых
шрама - следы пластической операции.
в будущем, пояснил:
широкую увесистую ладонь. - Валера Петровский.
качки и грозил вот-вот сорваться с борта. Надо привыкать и к морской жизни,
подумал я. Майор Комолов, который любил математически точные определения,




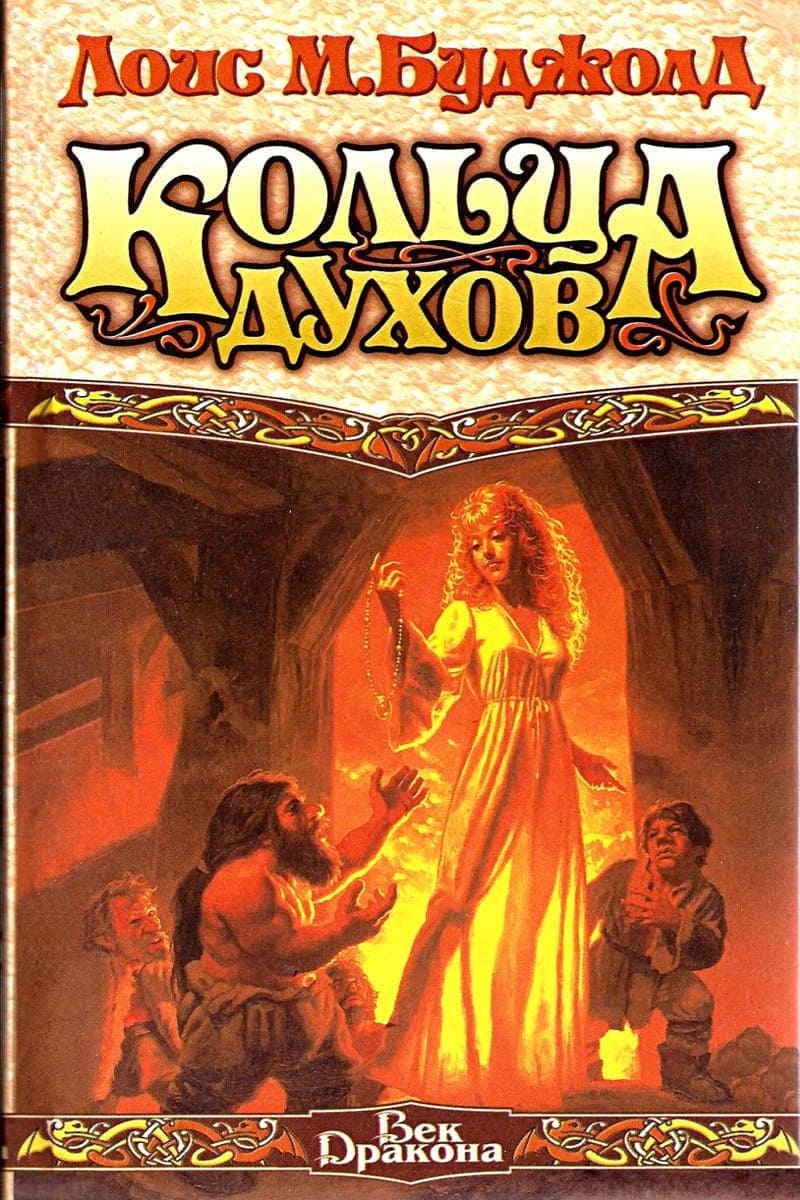

 Маркеев Олег
Маркеев Олег Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей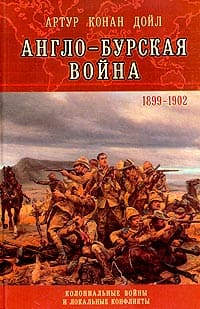 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур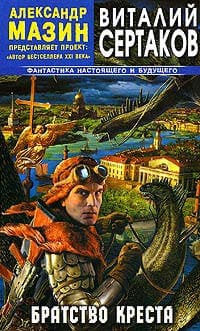 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий