дойдет до изнеможения, тогда без нажима к делу. Кругов - что да как,
попытаться вызнать, какие люди окружают конкурирующую чету, - может
заарканили необычайно весомого покровителя? - Круговы тоже немало
приобретали посредством Крупнякова и числились в постоянных клиентах.
песчинки высыпались из узкой горловины песочных часов. Наконец Крупняков
иссяк, обнял Наташу за талию, она не противилась, лениво отщипывала
виноградины в полпальца длиной, душистые, обволакивающие язык пахнущей
солнцем сладостью. Крупняков ел некрасиво, не так, как муж, но тоже
несовершенно, выручала его только медлительность, а так изыск в колдовстве
Крупнякова над столом не просматривался и совсем уж тускнели легенды о
дворянском происхождении.
безупречной работы серебряным ножом с якобы крупняковской монограммой и
перешла к делу. Безралично выспросила, давно ли видел Крупняков чету
Круговых и чем те живы и отчего жена Кругова вовсе исчезла, а Наташа меж
тем не забывает о ее хлопотах и мечтах, о песцовом жакете и даже раскопала
меховщика, вполне приличного и вовсе недорогого, хотя... Аркадьева
улыбнулась: чего Круговым экономить? Крупняков понимающе кивнул. В их
кругах считалось хорошим тоном многозначительно улыбаться за глаза,
оценивая финансовые возможности многолетних друзей, - все скрытники
великие и все упакованы дай бог.
владелец квартиры в центре все больше убеждался, что Аркадьева заявилась
не для цементирования уз и продолжения амуров, хотела выведать и Крупняков
уже знал что: жену Шпындро интересовали Круговы - нехитрая загадка, как
раз преувеличенное безразличие выдавало Аркадьеву. Девочка моя, Крупняков
сжевал оставшуюся половину персика, видно Кругов и твой благоверный
вырвались на финишную прямую: как вы боретесь за выезды, однако, сладкое
видно предприятие - грести, как жулики, а числиться в миру, как
незапятнанные, хрустальные индивиды. Крупняков, как немногие, знал цену
копейке, той, что высекаешь из бесчисленных звонков, сотен контактов с
малоприятными, а подчас темными личностями, только через десяток, а может
и более лет, когда очерчивается, утрясается проверенный рынок и дело более
менее отлаживается, открывается форточка, так про себя определял Крупняков
возможность стабильного выколачивания денег. Сколько ж трудов он вогнал,
потов, страхов в открытие форточки, а Шпындро гоголем подъезжал к
аэропорту, попивал в баре кофе с пирожными и через резиновый рукав
вышагивал достойно с гордостью; а прижми Шпындро, загони в угол,
залопочет, заблеет, что оклады мизерные, в забугорье лишнего стакана
прохладительной себе не позволишь и держится он за свое место скорее по
привычке; сколько ж понаслышался одинаковых песен Крупняков точь-в-точь
эстрадный репертуар - не отличишь одну от другой под страхом смерти.
Крупняков повеселел: его форточка, раз открытая, не зависела от прихотей
начальства, Шпындро или такие, как он, для себя всех таковских Крупняков
считал взаимозаменяемыми, нет разницы какова физиономия поставщиков, лишь
бы подтаскивали, главное - выездные боятся шума больше, чем Крупняков, им
огласка страшнее лютой казни, а раз так, Крупняков, снискав репутацию
дельца, обеспечивающего полнейшую скрытность коммерции, пользовался в мире
выездных немалым почтением.
поиграем, поводим на туго натянутом поводке, не то чтоб хотелось мстить за
безвременную экспроприацию фарфорового пастушка, а наказать за
бесцеремонность казалось справедливым.
бесстыдно, пили без повода, не прикрываяся словами участия, толкались,
орали, шумно, не пытаясь понизить голос, сыпали анекдотами, никто не
замечал фото старушки, обрамленное живыми цветами.
- другого и не предполагалось, а все же непотребство поражало. Настурция
жмется к Шпындре совсем уж внаглую, Боржомчик подщипывает на ходу чужую
жену, Рыжуха сметает жратву подчистую, едва не вылизывая блюда и
производительность ее челюстей посрамила бы снегоуборочную машину. И
только дочь Рыжухи вела себя пристойно, вот те и проститутка, господи, как
все перепуталось, как разобраться, где кто и чего стоит. Шпын держится,
сказывается тренаж многочисленных приемов и послепереговорных убаюкиваний
души и тела, но жрет, подлец, и пьет, не стесняясь, частит с подливанием,
будто с каждым глотком прикидывает выгоду: вот еще рюмаш на халяву
проскочил, вот другой, вот третий... Скверно, бабуля! Мордасов покосился
на портрет, одно утешало: половина поминальщиков смылась, еще четверо
собирались, а Рыжуху с ее греховодным побегом да Шпына с Настурцией он
выставит без церемоний. Усталость охватила Мордасова, знал до тонкостей,
какой оборот примут события, но... надо, положено, не поймут, если зажать
поминки, да и завернул посмертное веселье от сердца в память бабки и чтоб
еще один вечер без ее пригляда скоротать, не рвать душу.
взором и, чуть отступив, потянула мать. А чё? Мордасов выцелил через очки
пепельноволосую, не худший представитель державы, вести себя умеет, не
мельтешит, видно, силушка за ней числится и Мордасов без труда догадался
какая. Рыжуха оглядела с недоумением непомерный живот, будто увеличившийся
еще вдвое и поддержала его снизу руками, похоже опасаясь, что стоит ей
подняться, брюхо оторвется и шмякнется оземь, не выдержав собственной
тяжести. Неужто и дочь не сейчас, через десяток-другой годов превратится в
такое же чудище или... а мне чё? Мордасов опрокинул рюмку, заметив как
Шпын шепчет на ухо Настурции: сговариваются, определенно, мне чё? А зачем
скрытничают, будто меня не хотят обидеть, а то я не понимаю или взревную
или чё...
рысях, поцеловал руку пепельноволосой. Настурция сквозь неверно
фокусирующий глаз узрела согнутую в поклоне спину Шпындро, а над его
головой высокую грудь, тщательно уложенные пепельные волосы. Настурцию,
будто кнутом огрели: никогда никто не целовал ей руку, пропади пропадом
этот миг - на ее глазах мужчина из придуманного мира, по ее представлению
лучшего из всех возможных, смиренно целовал руку проститутке. Настурция
скрючилась, встретилась глазами с Мордасовым, сквозь затуманенные стекла
его очков прочла: вот так, мать, а ты чё хотела? Могло и показаться, что
Мордасов мысленно поддержал Притыку, все происходящее сейчас напоминало
театральное действие и придумано, и реально, и когда Настурция краем глаза
углядела, как Шпын сунул пепельноволосой визитку, то для облегчения
решила, что уж это ей точно привиделось пьяным глазом и ничего такого не
было, через минуту Шпын образовался рядом, покорно ухаживал, выспрашивал
невзначай, не пора ли отвальную принять и честь знать.
роняет Настурцию, все ж баба не из последних и собой не торгует, все
больше по любви, по сердоболию, по теплости не оприходованной женской
души. Мордасов вцепился б в глотку Шпына, вытолкал бы за дверь, надавал по
роже, никого не боясь, но кроткий взгляд бабули с фотографии удерживал и
как ни мизерно тлела трезвость в смятенном внуке, держала в узде крепко:
нельзя! Люди собрались выказать почтение, скорбь, а то, что в разнос
пошли, на то и выпивка в минуты, припахивающие могильным тленом, когда
каждый волей-неволей хоть и впрямую, хоть в обход выспрашивает себя: а мне
когда? сколько еще куражиться отпущено? И чтоб не отвечать, и умные, и
глупые, и стальной воли, и слабаки, что упиваются своей слабостью истовее,
чем иные силой, предпочитают не отвечать, гнать бередящее и затуманивать
мозг привычным дурманом.
поразмыслил: все оттого, что ему плачу, нанятый, за мзду соблюдает порядки
и все же не грех ему подкинуть, жалеть не расчет, только Боржомчик
скромной деловитостью своей напоминал Колодцу, что водятся еще люди на
земле с человеческой начинкой; пусть оплачено деньгами Мордасова это
утешение, а все равно примиряет с окружением. Мордасову еще жить и жить, а
как, да с кем? тут, как со сроками смерти собственной - лучше вопроса не
расслышать.
себя от стула, встал, покачнулся: присутствующие затихли, Рыжуха с дочерью
замерли на пороге. Больше всего на свете Мордасов желал бы матерно, грубо
до невозможности обляпать их всех обвинениями и страшными ругательствами,
орать непотребное, обвинять в жутком, высказывать такое, что ни
примирение, ни прощение невозможно вовеки и не боязнь потерять этих людей
- на кой дьявол они? - а лишь только благоговение перед бабулей и не
слишком твердая уверенность, что та наблюдает за внуком, невозможностью
для Мордасова причинить и крохотное страдание той, что сплошь в страданиях
прожила жизнь, удержали Мордасова, хотя по лицу его бродили красноречивые
тени и скулы свело так, что Шпын подобрался и раза два зыкнул на
приоткрытое оконце, видно оценивая, можно ли сигануть на улицу, если
Колодец разбушуется. Мордасов отлепил ладони от скатерти, прикрыл ими
лицо, будто надеясь, что гнев впитается в ладони, стряхнул напряжение, как
воду при утреннем умывании, и начал, весомо роняя каждое слово:
нашей беготни... за слова пусть искренние, пусть фальшивые, она
разберется, - кивок на фотографию. - Вы, возможно не любите меня, я,
возможно, вас, но есть в жизни человека два пункта, величие их и для
смрадной души необозримо - рождение и смерть... и получается...
небось вычитал где слезливо мудрое Колодец. Шпындро мыслью узрел, как
Мордасов, будто представленный к отчислению школяр, зубрит чужие слова,
пытаясь выкрутиться. Шпындро и предположить не мог, чтоб в мордасовской






 Орлов Алекс
Орлов Алекс Свержин Владимир
Свержин Владимир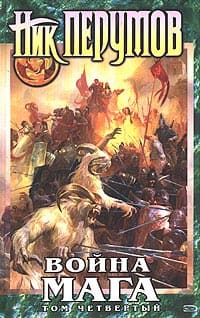 Перумов Ник
Перумов Ник Дальский Алекс
Дальский Алекс Шилова Юлия
Шилова Юлия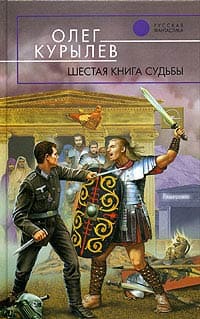 Курылев Олег
Курылев Олег