коленями.
многого не понимает, такой способен сразу ухватить суть... тысячи дверей
не принесут выгоды равной той, что предлагала Фердуева. Риск водился, но
без риска только птички поют, и, пока Филипп на месте, можно играть в эту
игру. Фердуева не хуже Пачкуна уразумела: дело не в риске, а в прикрытии,
и пока таковое имелось - греби, не зевай.
обсудить с Васькой Помрежем, единственно тревожило: продумано ли вводить в
дело еще одного человека, ничего не зная о нем и отталкиваясь единственно
от рекомендации легкомысленной Наташки Дрын, вольготно живущей под
крылышком Пачкуна и малосмыслящей в жизни.
масштабно, непривычно и все же решила ринуться напролом. - Помещение
присмотрено и как раз самое что ни на есть.
понадобятся будь-будь.
мастера.
переулки с чисто выметенными посольскими дворами, с неторопливыми
старушками, с чудом сохранившимися резного дерева входными дверями
обшарпанных подъездов, с неприметными магазинчиками на один прилавок и
одного продавца. Солнце подыгрывало пешей прогулке, и про "двадцатку"
Пачкуна, и про Фердуеву с ее прошитой стальными полосами дверью мужчина,
легко вышагивающий со сплющенной сумкой на спине, и думать забыл.
тоскливо оглядел иностранных гостей, выплывающих из книжной валютной
лавки, с вожделенными и недоступными туземцам томиками, прижатыми к бокам
или выпирающими острыми углами сквозь тонкую ткань вислых торб, и, снова
углубившись в переулок, наткнулся на вереницу иномарок с красными и
желтыми номерами у расцвеченного витражем входа, и приникшего к
разноцветью витража вальяжного мужчину, протирающего замшевым лоскутом
желто-сине-красные стекла.
и сразу виделось, что верным служением перу, палат каменных не нажил, и
владелец частного кафе Чорк с сожалением проводил ровесника непонимающим
взглядом: не дай Бог так жить! Будто конюх в конюшне, оглядел застывшие
машины и юркнул во тьму заведения задавать корм владельцам авто.
назад перекрытиями, так и не удосужившегося дождаться капитального
ремонта. Дом торчал в переулке, будто разбомбленный прицельным
бомбометанием, уничтожившим только его внутренности и не порушившим вокруг
ни камня, ни дерева; глазницы окон, пустые или с проглядывающими
безжизненными стенами, навевали ощущения, схожие с кладбищенскими, когда
бредешь меж чужих могил, бездумно скользя по датам чужих рождений и
смертей, не отдавая отчета и себе - или, напротив, зная наверное - что
есть некто, ведающий и твои сроки, твои пределы.
витринами книжный. У посольских ворот спорили два итальянца, да так
темпераментно, будто в кино, будто Апраксин подсмотрел нечаянно сцену на
неаполитанском дворе или на улочке Кальтанисетты.
входа, тож на валюту. Апраксин помрачнел и продолжил шествие к Арбату.
Зелено-желто-синий флаг Габона, напоминающий тканью газовые платки,
развевался над особняком бывшего посольства Израиля. Апраксин вспомнил,
как в пятьдесят шестом, по случаю тройственной агрессии, швырял
чернильницы в желтые стены особняка, и испытал чувство неловкости. Что он
знал, кто прав, кто виноват? Сжевал мальчишкой газетные абзацы и с
дружками, накупив флаконов фиолетовых чернил в канцелярских
принадлежностях на Садовом, ринулся крушить.
стародавний чернильный подтек, разглядывал пятно и так, и сяк; от
размышлений оторвал голос младшего лейтенанта. Офицер милиции взял под
козырек и улыбнулся. Апраксин откровенно ожидал другого; человек при
исполнении стеганет - в чем дело гражданин? - или того хуже - ваши
документы! - но однозвездный лейтенант, смущаясь, человеческим языком
выяснил не нужно ли чего Апраксину, а услыхав про чернила и про сомнения
Апраксина, пошел розовыми пятнами и веско признался: "В молодости ни черта
мы не мыслим, да и потом...". Махнул рукой и отошел к алюминиевой будке,
служащей укрытием все четыре времени года.
налетел сразу на три очереди: одна алкала залихватским чубом закрученного
мороженого в вафельных фунтиках, другая рвалась в пельменную, третья
окружила кольцами фургон-пиццерию, кажется первую многоколесную гусеницу,
появившуюся на улицах Москвы.
маловато, - съязвил дядька приезжего вида в фетровой шляпе луговой зелени.
- Вот два-три расставят, тоды лады, - и дядька надвинул шляпу, скрывая то
ли злые, то ли веселые глаза.
и объединяло жиличку со второго этажа и неизвестного в очереди за пиццей,
определенно не столичное происхождение, скользившее не только в речи, но и
в напоре, в любви по-деревенски ерничать, даже в причудливой манере
одеваться, хотя мужчина облачен хуже некуда, а Фердуева - лучше не бывает.
неведомой ему технологией украшения стен; на синей эмали порхали
желтоватые птицы, извивались неземные цветы, на деревянном столике дымился
кругляк иммеретинского хачапури, чай в чашке чернел и призывал терпкими
запахами.
носились начальственные антрацитовые "волгари", ни художников, ни
фотографов, не профилерезов - улица купалась в чаду выхлопов, и в голову
не приходило, что под колоннадой театра Вахтангова двое молодцов - гитара
и саксофон - наводнят уличный коридор, зажатый разнофасадными зданиями,
звуками джаза.
как низкорослый мужчина, меднолобый, с плешью, обрамленной колечками
седины, сообщил другому:
миллионерами, и сейчас никто не раскрыл их секретов.
примиренчество к миллионерам, беззаботно прожившим свой век, когда
крестьян-однолошадников гноили сотнями тысяч.
чернильницы в пятьдесят шестом, попробуй нащупать истинное, когда все
опутано, перекручено, и если поскрести, то и выплывает нечто, напрочь
перечеркивающее твою былую железобетонную уверенность.
Апраксин точно их знал, встречал часто, но где? И только, когда Мишка Шурф
и Володька Ремиз завернули в переулок, где припарковали машину, припомнил
- мясники из "двадцатки", обедали, как видно, и Апраксин придрался к
пачкунятам: то-то их вечно нет за прилавком, да впрямь, чего торчать над
пустыми мраморными плитами, только раздражать людей бессмысленностью
выстаивания, каждому покупателю ведомо: жалованье-то капает.
магазинчика к беллетристике, вынул из нагрудного кармана театральный
бинокль - еще три года назад подсмотрел обычай у опытного библиографа и
перенял - заскользил по корешкам. Рабле - тридцать восьмого года издания,
опознал сразу и не поверил. Господи, с гравюрами Доре! Продавщица лениво
протянула том, Апраксин припал глазами к фантазиям маэстро гравюр,
намертво запечатлевшимся еще в третьем классе, уплатил в кассу десятку и,
прижимая книгу к груди, забыв обо всем, выбрался на брусчатку, в залитый
солнцем людской водоворот, то вспенивающийся у картин в технике "сухая
кисть", то опадающий к центру улицы.
свернул на бульвар, даже не глянув на Гоголя в бронзе, более напоминающего
диктатора банановой республики или конкистадора, пролившего реки крови и к
старости обласканного предусмотрительным монархом.
вползающей в абсолютную пустоту прилавков, наступающую между четырьмя и
вечерним валом спешащих с работы, попытался купить молока. "Двадцатка"
встретила двумя товарами: майонезом и горчицей, за мясным прилавком маячил
Мишка - домчались из "Риони" с ветерком, да еще овощной прилавок украшали
неподъемные трехлитровые банки маринадов, ну и рыбные консервы, не
находившие потребителей даже среди отчаянных питух, мрачно громоздились в
навсегда завоеванном углу витрины.
столкновение, пожал плечами, зачем-то повинился Апраксину, и не думавшему
требовать ответа.
вопиющее противоречие с гладкостью лица, с жирнопокатыми плечами, с
брюшком, круглящимся под белым халатом, с дорогущими часами - слабость
Пачкуна, при всей любви к маскараду, в часах себе не отказывал, - с





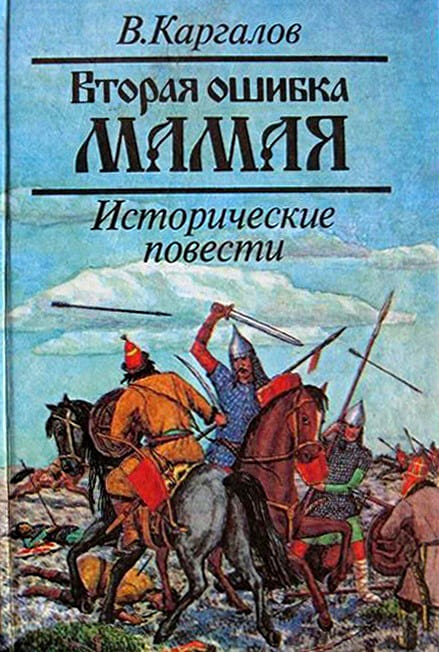
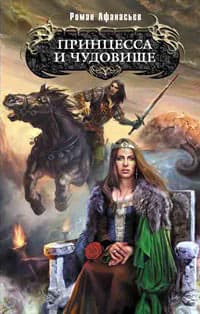 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман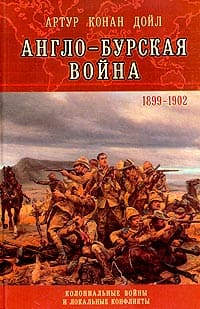 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Березин Федор
Березин Федор Каменистый Артем
Каменистый Артем Шилова Юлия
Шилова Юлия