кто и что от него хочет.
на месте водителя, заурчал мотор: телескопическая нога выпускала колено за
коленом, вознося стакан к ночному небу.
неправильными квадратами, будто кто припечатал к трехэтажному строению
тюремную решетку на все окна сразу.
метнулась кошка.
темноту арочной пасти. Двое в кабине включили магнитофон, покуривали,
ожидая намеченного часа. В три ночи желтый кузов в пустынном дворе
задрожал, плюнули светом фары, разгоняя черноту в арке, и техпомощь
выехала в неизвестном направлении.
разновидностей - не счесть и, соорудив неприступную дверь, тешила себя
неприкосновенностью: никто не мог нарушить возведенную твердыню, никто не
мог ворваться в ее мирок без ее ведома и соизволения. Защищенности, вот
чего так долго не доставало ей, и теперь дверь из стальных полос очертила
магический круг, избавив Нину Пантелеевну от страхов за нажитое.
Наташка Дрын и Акулетта, выказавшая недюжинную сноровку в ухаживании за
потерпевшей.
объединяло все. Привязанности таких людей диктуются единственно выгодой и
лишены налета человеческих побуждений. Пусть хлопочут! Фердуева отошла к
обитой вагонкой стене, дерево холодило ладони. Дверь-крепость оказалась
недостающим звеном устройства Фердуевой в этой жизни. Раньше никогда б не
согласилась на ночевку; было что терять, квартирных краж тысячи, и
осторожность не помешает: мастер-дверщик, получая расчет и даже лаская
Фердуеву, еще раз подчеркнул, как бы невзначай, но веско: такую дверь
приступом взять невозможно. И кто бы ни задумал запустить руку в добро
Фердуевой, непременно уткнется в дверь и расшибет лоб. Фердуева загодя
вычислила, откуда приходит опасность и подготовилась встретить противника.
Глянула на Акулетту, смачивающую губы Приманки: сколько раз проститутку
потрошили, не приведи Господь, и каждый раз наводку давали дружки, - чего
уж там, все всё понимают, - и сейчас Фердуева не сомневалась: среди
присутствующих все, за исключением Васьки Помрежа, порадовались бы, если б
Фердуеву обобрали до нитки.
вещам, крушили любезные предметы, распихивали по карманам раздобытые
тяжкими трудами драгоценности.
готовая защищать в любое время дня и ночи от лихих людей. Стальные полосы,
будто вобрали недостающее, родительское, завещанное до срока умершей в
колхозную голодуху матерью, понимавшей на тряпичном одре в разваливающейся
хибаре: дочь ждет нелегкая дорога... Дверь привнесла в ощущения Фердуевой
новое: нечто - Бог с ним, что не нашелся некто! - круглосуточно оберегает,
простирает руки, отводит удары, дверь познакомила Фердуеву с ощущением
защищенного тыла: врага встречаешь лицом к лицу, уверен - спина надежно
прикрыта, никто не нанесет удар сзади. Дверь напомнила давно забытое:
лихоманка треплет девочку, бабка, склоненная над Нинкой, дрожащие руки
старухи выпустили градусник, привезенный из города, шарики ртути скачут по
щелястому полу, забиваясь в трещины, в чугунке отварена картошка, краденая
с общего поля, два протомленных клубня впихнуты в алюминиевую солдатскую
кружку, бабка чайной ложкой кормит занедужившую внучку, разминая
картофелины в пюре, а вместо масла жирные пенки с молока, раздобытого
бабкой у сожительницы председателя сельсовета: у всех скотину отобрали, у
грудастой Маньки оставили, как-никак греет государственного человека.
проститутки: глаза нечеловеческие, хрипы и посвисты вырываются из
запеченных губ.
горе - своего навалом; всю жизнь, будто бредешь по мостку из единой,
тонкой и дрожащей под ногами досочки, чуть качнуло влево - пропал, чуть
вправо - пропал, ухнул вниз, а под хлипким мостком море разливанное
несчастий, приведется нырнуть, не вынырнешь, а уж с мостка никто руки не
протянет, счастливчики сами еле удерживают равновесие, не до помоги...
лепишь-лепишь гнездо, смачиваешь соломинки слюной, только нарастил
спасительный кокон, на тебе - чужие руки сомнут или завистливые взгляды
испепелят, и начинай с начала. Дверь как раз и наносила удар по шаткости.
зализать раны. Фердуева нечетко улавливала переговоры за спиной: хрипанул
Васька Помреж, пискнула Акулетта истеричным, избалованным голоском,
бархатно вступил Пачкун, начальственно ухнул Дурасников, косноязычно
заплел Почуваев... Пусть себе тарахтят, ей что... На работу напишут?
Смехота! Приманке лучше б не выжить, на кой ляд дуре жизнь без лица?
Побираться по переходам, детей стращать?
скорбные рожи кроит, меня-то, Миш, не дури, ты парень жестокий, одна
видимость, что улыбками сыпешь, ты, как я, исключительно собой увлечен. А
как иначе, Миш? Припрешь такого правдолюбца-справедливца, начнет
изворачиваться, уверять, что токмо о других печется неустанно. Враль, Миш,
мы-то понимаем, враль, дешевка и сука, решившая подкормиться на добре. Ты,
Миш, поведаешь заинтересованным лицам, что я еще могу куснуть - не
возрадуешься, что еще в силе Фердуева, шутить с ней - кислый промысел,
вонь да хлопоты.
стольной, обрастая подробностям, от раза к разу все более невероятными.
Заклубятся домыслы да разговоры, защипет в носах у северных, застит
глазенки их завидущие, может успокоятся на время. Фердуева обозначила
сожжением Приманки - меня не тронь! - Слабаков пруд пруди, их и
раскалывайте на лишнюю монету.
Опасаешься?
сразу усекла, о чем мясник, ответила сбивчиво:
ненаглядную, ни о чем не волнуюсь.
Копать начнут, что да как?
А если особо любопытствующие законники найдутся, так не впервой, Миш,
деньга еще на Руси цену не потеряла... или из ума я выжила?
мучнистости лицо Дурасникова, и страх его очевидный, пляшущий по изломам
запекших губ, корежащий и без того кривоватого зампреда; и девки шаманят,
подвывая, ойкая, всплескивая руками, хватаясь за густо намазанные морды; и
притихший, ошалевший Почуваев, ошпаренный предстоящим развалом
налаженного, сытого бытия; и раздавленный Васька Помреж, несущий бремя не
только страха за собственную шкуру, но и сочувствующий несчастью,
постигшему Приманку; и невозмутимый Пачкун - степенный дон Агильяр в
сиянии седин, только лобик засборил гармошечным мехом, будто прикидывал,
как выпутаться из обычной неприятности - нагрянули без предупреждения
ревизоры, а у дона, как назло, лишек в кассе, благо если б недостача.
раскаленное уроненные, и мыслишки вспучиваются под черепом, вспыхивают
фейерверком и быстро угасают во тьме надвигающихся неприятностей.
Угораздило! Попарились! И нажрались, и вляпались в трясинное дело, а всего
день, да что день час-другой назад все так покойно обволакивало: кругом
народ с ума сходит, где деньгу раздобыть на пропитание детей малых, а тут
все тяготы, куда да кому с толком всучить бабки, чтоб потешить себя
всласть, как раз и не замечая - чего зря сердце рвать? - полумор, что
разливается вокруг тебя.
боятся денег, как огонь воды и, если бочек поливальных в избытке, всегда
пламя собьешь, а еще Мишка предвкушал предстоящие рассказы - благо
очевидец - перетасовывал подробности, умилялся раскрытым ртам, видел себя
в центре внимания и обмозговывал, где приврать допустимо, а где держаться
единственно правды. Беда не велика. Приманке не позавидуешь - факт,
остальным только нервное возбуждение, ну, может, общеукрепляющая маета с
законом: Мишка считал, что труженикам опасных ремесел время от времени с
законом сталкиваться, что спортсмену тренировки, вещь необходимая, не то
навык утеряешь. И сейчас про себя беседовал с дознавателем, перебирая, что
спросит чин, а что ответит Шурф, а о чем умолчит.
Дурасникова облизало холодом, и впервые, кажется, зампред убедился, что
все наяву, не сон, не полупьяный бред, а именно в его присутствии сгорела
девка и как раз та, желанная, наделенная буйным, голодным воображением
зампреда невиданными женскими совершенствами. Дурасников бочком покатился
к двери. Побег завораживал - возможно выкрутится? - беглец перебирал
ножонками не хуже балерины, на одних носках неслышно крался к медной
дверной ручке - дерни на себя и... свобода - только ноги не жалей, дуй во
всю мочь, дальше и дальше...






 Посняков Андрей
Посняков Андрей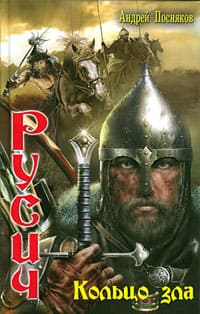 Посняков Андрей
Посняков Андрей Посняков Андрей
Посняков Андрей Василенко Иван
Василенко Иван Зыков Виталий
Зыков Виталий Шилова Юлия
Шилова Юлия