Говард Роберт
САД СТРАХА
известно, я объяснить не в силах, нечего и пытаться -- никакие
оккультные и эзотерические знания не помогут. Человеку
свойственно помнить произошедшее в его жизни, я же помню свои
ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ. Как обычный индивидуум помнит о том, каким он
был в детстве, отрочестве и юности, так и я помню все
воплощения Джеймса Эллисона в минувших веках.
память, но точно так же я не смог бы объяснить мириады
природных феноменов, с которыми что ни день сталкиваются люди,
Едва ли даже моя физическая смерть положит конец грандиозной
веренице жизней и личностей, сегодня завершающейся мною. Я вижу
мысленным взором людей, которыми я был, и вижу нелюдей,
которыми был когда-то тоже. Ибо память моя не ограничивается
временем существования человечества -- когда животное в своем
развитии вплотную приблизилось к человеку, как провести четкую
границу, где кончается одно и начинается другое?
гигантских деревьев первобытного леса, где отродясь не ступала
нога, обутая в кожу. Между зеленых исполинов неуклюже, но
довольно быстро передвигается массивная волосатая туша -- то
шагая во весь рост, то опускаясь на все четыре конечности, --
выкапывает личинки насекомых из-под коры деревьев и трухлявых
пней. Маленькие прижатые к голове уши в беспрерывном движении.
Вот существо подымает голову и скалит желтые зубы. Я вижу, что
это примитивный звероподобный антропоид, ничего более, и все же
осознаю свое с ним родство. Родство? Пожалуй, вернее будет
сказать -- тождественность, ибо я это он, а он это я. Пусть
кожа моя мягка, бела и безволоса, а его шкура темная и жесткая
как древесная кора и вся покрыта свалявшейся шерстью, тем не
менее мы -- одно целое и в хилом неразвитом мозгу этой горы
плоти уже начинают шевелиться человеческие мысли, просыпаются
человеческие мечты и желанья. Они незрелы, хаотичны, мимолетны,
но именно им суждено стать первоосновой всех возвышенных и
прекрасных творений человеческого разума грядущих веков.
вести к безднам столь темным и пугающим, что я просто не рискую
последовать туда...
О, как же давно это было! Я не возьмусь назвать точную дату,
скажу только, что с той поры долины и горы, материки и океаны
изменили свои очертания не один, а дюжину раз и целые народы --
даже расы -- прекратили свое существование, уступив место
новым.
из ледяных пустынь сумеречного Асгарда пославшего в долгие и
далекие странствия по всему миру племена светлокожих
голубоглазых людей. В каких только странных местах не оставляли
они своих следов! Во время одной из таких подвижек длиною в
столетье я и родился, чтобы никогда уже не увидеть родины
предков, где некогда мои соплеменники-северяне обитали в шатрах
из лошадиных шкур среди вековых снегов.
похожим на прочих мужчин-эйзиров, свирепых, могучих, неистовых,
не признающих никаких богов, кроме Имира-Ледяной Бороды, во имя
которого кропили свои боевые топоры кровью многих племен и
народов. Мускулы мои подобны были туго свитым стальным канатам,
на мощные плечи львиной гривой ниспадали белокурые волосы,
чресла опоясывала шкура леопарда. Каждая из мускулистых рук
равно искусно владела кремневым топором.
временами отклоняясь в ту или иную сторону и даже
останавливаясь на долгие месяцы в изобильных долинах, кишащих
травоядными, и все-таки медленно но верно продвигаясь на юг, на
юг, на юг... В основном путь наш пролегал через бескрайние
пространства степей, никогда не знавших человечьего крика, но
случалось и так, что дорогу нам заступали воины из земель, по
которым мы шли -- и тогда мы оставляли за своей спиной залитые
кровью тела и пепелища уничтоженных деревень. И в этом долгом
походе, занимаясь то охотой, то убийством, я стал взрослым
мужчиной. А еще я полюбил Гудрун.
слепому пытаться описать цвета. Конечно, я могу сказать, что
кожа ее была белее молока, колышущееся золото волос соперничало
с пылом дневного светила, грация и изящество ее тела могли бы
посрамить греческих богинь. Но разве можно неуклюжими словами
дать представление о чуде, об этом пламени нездешнем, что
носила имя Гудрун? У вас попросту нет основы для сравнения, --
ведь вы можете судить о Женщине лишь по представительницам
слабого пола своего времени, а они схожи с нею как огонек свечи
с чистым сиянием лунного диска. За бесчисленные века не
рождалось на Земле женщины, подобной Гудрун; Клеопатра, Таис,
Елена Троянская -- все они были лишь бледными тенями ее
красоты, жалкими имитациями цветка, распустившегося во всем
своем великолепии один только раз на заре человечества.
отправился в неизведанные дикие земли, преследуемый изгнанник с
обагренными кровью руками. Гудрун не принадлежала к моему
племени от рождения: некогда наши воины нашли в дремучем лесу
заплутавшего плачущего ребенка, брошенного, судя по всему, на
произвол судьбы соплеменниками, какими-то кочевниками вроде нас
самих. Девочку приютили наши женщины и вскоре она превратилась
в очаровательную юную девушку. И тогда ее отдали Хеймдалу
Сильному, самому могучему охотнику клана...
Гудрун, в мозгу моем тлел огонек безумия, взметнувшийся
неукротимым лесным пожаром при этом известии, и, сожженный им
дотла, я убил Хеймдала Сильного, сокрушил его череп своим
кремневым топором прежде, чем он успел увести Гудрун в свой
шатер из конских шкур.
разгневанного племени. Гудрун безропотно и с готовностью пошла
со мною, ибо ее любовь ко мне была любовью женщин Эйзира,
всепожирающим пламенем, сокрушающим слабость и немочь. В ту
дикую древнюю эпоху жизнь была суровой и жестокой, каждый день
был помечен кровью и слабый умирал быстро. Потому в душах наших
не оставалось места слабости, мягкости, нежности -- наши
страсти были сродне буре, пьянящему безумию битвы, неистовому
львиному рыку. Современный человек наверняка бы сказал, что
наша любовь столь же чудовищна и ужасна, как и наша ненависть.
бросились по нашим горячим следам. День и ночь они без
передышки гнались за нами, пока мы не кинулись вплавь в бурную
реку, ревущий пенистый поток, на что даже крепкие
мужчины-эйзиры не отважились. Один лишь вид его внушал мне
трепет, но в безрассудном порыве, влекомые вперед любовью и
погоней, мы проложили себе путь сквозь поток и, хоть и избитые
и израненные яростью стихии, живыми достигли противоположного
берега.
защищаясь от леопардов и тигров, водившихся здесь во множестве,
пока не вышли к подножию грандиозной горной цепи. В
непостижимой выси голубые острия вершин вонзались в небо, откос
громоздился на откос. В горах нас одолевали ледяные
пронизывающие ветры и голод, а еще гигантские кондоры, то и
дело пикирующие сверху с отвратительным клекотом и хлопаньем
громадных крыльев. Бесконечные схватки в ущельях и на перевалах
истощили весь мой запас стрел, раскололось копье с кремневым
наконечником, но в конце концов мы перевалили через
безжизненный, закованный во льды горный хребет и, спустившись
по южным отрогам, очутились в небольшом поселении -- кучке
грязных хижин-мазанок среди торчащих тут и там скал -- где
обитал миролюбивый бурокожий народец, говорящий на странном
незнакомом языке и имеющий странные для того времени обычаи.
Люди эти вели себя дружелюбно, они встретили нас знаками мира и
повели в деревню, где принялись угощать мясом, ячменным хлебом
и кислым молоком. Пока мы насыщали свои давно пустующие
желудки, они сидели вокруг на корточках, а одна из женщин
негромко отстукивала на тамтаме мелодию в нашу честь.
опустился плотный саван тьмы. Со всех сторон над селением
угрожающе нависли островерхие скалы, пронзающие звездное небо
-- жалкая кучка неуклюжих мазанок потерялась, утонула в
необъятности ночи. Охваченная щемящим чувством заброшенности и
беззащитности, Гудрун тесно прижалась ко мне, уткнувшись острым
плечом в мышцы груди. Мне же был неведом страх, как прежде, так
и теперь, -- ведь под рукой у меня был верный боевой топор!


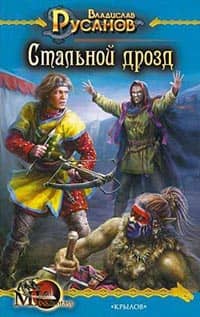
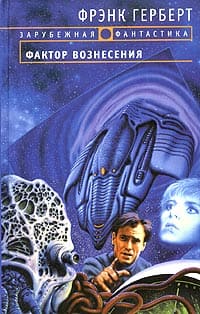
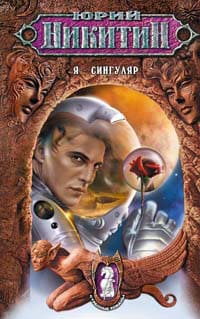

 Ильин Андрей
Ильин Андрей Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав Корнев Павел
Корнев Павел Березин Федор
Березин Федор Панов Вадим
Панов Вадим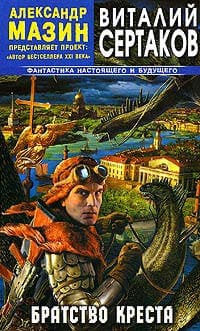 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий