— Я жду, — повторила Наташа.
— Э, — ответил Алексей, — э-э-э…
— Ну и целуйся со своим папашей полоумным, — сорвалась на несвойственную грубость Наташа и быстро зашагала прочь. У края аллеи она замедлила шаги, потом обернулась. Алексей стоял столбом, только рука дергалась возле горла. Наташа откинула голову и ушла. Насовсем.
Потом Алексей звонил ей, караулил возле дома.
Но все тщетно. Только много позже, накануне отъезда, она позвонила сама и, не поздоровавшись, резко спросила:
— Так остаешься?
— Наташа, ты? — воскликнул Алексей.
— Остаешься?
— Я…
Наташа бросила трубку.
Впрочем, этот звонок уже ничего не решал. Столь решительно отвернувшись от мучительных сомнений Алексея, поставленного перед тяжелейшим жизненным выбором, Наташа сама сделала этот выбор однозначным. Он понял, что потерял ее, и во всем мире у него остался только один близкий человек — отец. Значит, так тому и быть.
Отъезжали в дождливый, мрачный день. Помогая Алексею с шофером уложить в таксомотор два чемодана (вещи, отправленные заранее, уже ждали их в Благовещенске), отец радовался:
— В дождь, говорят, уезжать хорошо.
— Это смотря куда, — хмуро отвечал шофер-русак.
— Домой, — сказал отец.
Алексей и шофер промолчали.
Всего в Союз отправлялось двенадцать семей. Провожать их пришла чуть ли не вся русская община. Плакали, обнимались, забыв про раздоры и неприязнь, понимая, что, скорее всего, больше никогда не увидятся. В этот час даже те, кто ненавидел и боялся тогдашних властителей России, завидовали отъезжающим, которые уже через сутки ступят на родную землю. К Захаржевским пробились запыхавшийся Богданович с Марией Николаевной.
— Вот, а я уж боялся, что опоздаю. Эдуард, Алеша, прощайте, не поминайте лихом, поцелуйте за меня русскую землю…
— Прощай, Владимир, — грустно сказал отец. — Все же такой кусок жизни рядом прожили… Старики обнялись.
— А Наташа? — тихо спросил Алексей, обнимаясь с Марией Николаевной.
Та промолчала, а Богданович почему-то смутился и ответил скороговоркой:
— Приболела что-то… Впрочем, тоже просила пожелать всего наилучшего.
— Не понимает она… — начала Мария Николаевна, но замолчала и только перекрестила Алексея. — С Богом, милый!
Алексей отвернулся.
Дали гудок. Пассажиры заспешили на посадку. В спальном, который через несколько часов подцепят к пекинскому экспрессу, ехали почти одни русские. Китайцы набились в другие вагоны, которые границу не пересекут. На столиках в купе появилась водка-ханжа, колбаса, помидорчики.
— Ну что, вздрогнем, братцы, за Россию! — разлив водку по стаканам, прогудел Титаренко, работавший когда-то в мастерской Захаржевского и на правах старого знакомого ввалившийся в их купе. — Дай Бог, чтоб не последняя!..
— Предпоследняя, — буркнул Алексей, которому сделалось очень-очень грустно. Осушив стакан, он поднялся, вышел в коридор и закурил, глядя в окно.
Мелькали поля, деревеньки, маньчжурское редколесье, сопки. Алексей курил, барабанил тонкими пальцами по стеклу, по которому поперечными полосами бежали капли.
«С чистого листа, — думал он. — Как сложится все, с чего начнется новая книга и чем продолжится?»
Он закрывал глаза, пытаясь вообразить картины будущего, но перед глазами упрямо возникала аллея в парке вечной осени и удаляющаяся фигурка Наташи.
II
Новая книга началась индифферентно. Не было ни оркестров с цветами, ни взвода суровых автоматчиков. У самой границы весь состав подняли, меняя колею, и под вагонами проползли китайские пограничники, светя вверх фонариками. Вошел чиновник с приклеенной улыбкой, проверил билеты, паспорта, проставил печати. Поезд тронулся, но очень скоро остановился вновь. Забегали проводники, предупреждая пассажиров, чтобы из купе не выходили. Через пятнадцать томительных минут в двери постучали, и вошел веселый советский лейтенант в сопровождении двух мрачных сержантов.
— Паспорта, пожалуйста, — сказал лейтенант и, принимая от Захаржевского-старшего затрепанную серпастую книжечку с новеньким вкладышем, улыбнулся. — Домой, значит?
— Домой, — начал Захаржевский, явно намереваясь продолжить, но лейтенант уже проставил печати, взял под козырек и двинулся к соседнему купе. Один из сержантов на прощание одарил обоих пассажиров неприветливым взглядом.
— И все? — недоуменно спросил Алексей. — А мне говорили, будут рыться в вещах, шарить по карманам…
Дверь распахнулась снова и показались двое в синих кителях, одинаково постриженных, черноволосых, с реденькими усами. И только по форме можно было разобрать, что один из вошедших — мужчина, а другой — женщина.
— Золото, валюта, антисоветские издания? — басом спросила женщина.
— Вот. — Захаржевский-отец дрожащими руками протянул ей кипу бумажек с разрешением на вывоз колец, сережек, браслета, оставшихся после жены, столового серебра. Она просмотрела их без всякого любопытства, только одну перечитала, показала мужчине, и они о чем-то зашептались.
— Это ничего, — произнес вслух мужчина, и оба молча вышли.
— Вот тебе и весь обыск, — торжествующе сказал отец. — Наслушался, понимаешь, белогвардейских небылиц.
В Благовещенске их встретил симпатичный крепыш, чуть постарше Алексея, в ладном гражданском костюме (похожие крепыши подходили и к другим семьям).
— Здравствуйте, — сказал он, протягивая широкую, крепкую ладонь. — Я — Петров. Мне поручено проводить вас к месту постоянного проживания, проследить, чтобы все было в порядке.
— Мне говорили, что нас поселят в Иркутске, товарищ, — сказал Эдуард Иванович, с удовольствием налегая на последнее слово. — Я бывал там в двадцать четвертом. Исключительно приятный город.
— Исключительно, товарищ, — с чуть заметной иронией ответил Петров. — Иркутск, Индустриальная, четырнадцать, согласно ордеру и листку прибытия.
— Вот спасибо вам.
— Да не за что. Может, пойдем пока в гостиницу, перекусим? Отдохнете с дороги.
Иркутск потряс Алексея бытовым убожеством и обилием молодых одиноких женщин. Впрочем, с первым они свыклись довольно быстро, вновь введя в свою жизнь некоторые привычки военной поры — с ведрами ходили за две улицы к колонке, пилили на дрова сырые бревна, заделывали щели в стенах отведенной им половины запущенного деревянного домика и в печке-голландке, из-за частых перебоев с электричеством держали наготове керосиновую лампу, огромной дровяной плитой пользовались нечасто — экономя дрова и время, обычно ограничивались примусом. Второе же обстоятельство поначалу обернулось для Алексея мучением.
Повсеместное преобладание женщин стало очень скоро понятно — большинство его сверстников двадцать шестого года рождения, зацепившие фронт лишь краешком, дослуживало пяти — и семилетний срок призыва уже в мирной Советской армии, мужчин постарше выкосила война. На «чулочке» — фабрике, куда его направили экспедитором (как лицо, не имеющее квалификации, но с законченным средним образованием), его окружали сплошь одни женщины, среди которых было множество интересных. И от взгляда Алексея не укрылось, что его появление явно не оставило их равнодушными — откуда-то взялись нарядные кофточки, кое у кого — помада на губах, тушь на ресницах и новые прически. Под обстрелом глазок — серых, карих, голубых — он оказывался постоянно… И все. Его мало-мальский ответный интерес наталкивался на глухую стену. Речи смолкали, улыбки исчезали либо кисли прямо на виду. И так было везде — в отделе снабжения, в бухгалтерии, в цехах, в канцелярии, в библиотеке, в доме культуры, где Алексей стал подрабатывать, играя на вечерах отдыха. Конечно, многое тут было от ханжества, которое неприятно поразило Алексея в советских женщинах, за исключением лишь самых отпетых или уже совсем простых. Но ведь были, были и поцелуи, и объятия, и слезы в рабочее время, и шепотки за спиной, круги под глазами и рассеянные блуждающие улыбки на лицах, бледных после бессонной ночи, и кучки кавалеров у ворот фабрики, и внезапные недомогания, и сплетни, сплетни — в мужском кругу, в женском, в смешанном.
Но Алексей был чужак. Хуже того, чужак — подозрительный, явившийся из мира далекого, недосягаемого, не имевшего для окружающих сколько-нибудь реальных очертаний, а потому враждебного. Никто не говорил ему это в лицо, но отношение витало в воздухе. И приходилось «идти по низам» — от разбитной сорокалетней пьяницы соседки с дряблым телом и угарным дыханием до незамужней кассирши Али с золотыми зубами, жесткой шестимесячной завивкой бесцветных волос и варикозными венами. Было, было… и тайные визиты в городскую больницу, где за приличные деньги пришлось пройти очень неприятный курс лечения, и ночное бегство в неглиже от озверевших пьяных конкурентов, и мерзкий привкус во рту, когда просыпаешься в несвежей постели рядом с храпящим телом, некрасивым и немилым, и страстные клятвы самому себе — прекратить, прекратить, прекратить… Так и сложилось, так и далее по жизни пошло: либо чистая, вечная женственность, олицетворенная в недоступной ныне Наташе и влюбленность идеальная; либо куски мерзкой, похотливой плоти. И чувства эта плоть вызывала примерно такие же, какие вызывает отхожее место — бывают сортиры почище и покрасивее, бывают совсем уже вонючие и поганые.
III
Осенью Алексея взяли. Прямо в отделении, куда он пришел на ежемесячную регистрацию. Подошел гражданин в штатском и… Скорее всего, кто-то из бывших харбинцев, выслуживаясь, осведомил о давней и глупой гимназической выходке — бегстве в Трехреченскую и обратно. Что ж, кто бы ни был этот стукач, он спас Алексею жизнь, потому что через полгода всех остальных, кто ехал с ними на родину в китайском спальном вагоне, а потом рассеялся по городам и весям Сибири, арестовали по некоему «белокитайскому делу», о котором «семеновский бандит» Захаржевский узнал из газет в культурно-воспитательной части учреждения АЧ 84/0186 Дальстроя, а некоторые подробности получил по зэковскому «телеграфу». Как выяснилось, заговорщики, направляемые лично Чан Кайши, намеревались путем цепочки диверсий и мятежей добиться отделения Сибири от СССР и создать на ее территории марионеточное государство, подчиненное Тайваню и косвенно США, а в дальнейшем использовать этот плацдарм для развязывания войны против СССР и Красного Китая. Гуманный советский суд, учитывая чистосердечные признания обвиняемых и то, что заговор был раскрыт доблестными органами до того, как преступная группа перешла к активным действиям, сохранил преступникам жизнь, определив им по двадцать пять лет лишения свободы (Алексею накрутили «червонец»). В списке из девятнадцати фамилий Алексей не нашел отца. И лишь намного позже он узнал, что отца забрали прямо из больницы с тяжелейшим воспалением легких, везли через весь город в одном легком пиджачке, а неделю спустя старик умер в другой больнице, с зарешеченными окнами, не побывав ни на одном допросе. Остальных же заговорщиков «телеграф» довел до ворот Омского централа, а что с ними было дальше — не знает никто. Впрочем, догадаться было несложно…
Алексею повезло и еще раз — начальник учреждения был большой любитель музыки, особенно классической оперетты. Двусмысленное, холуйское положение, в котором Алексей оказался, чуть ли не сразу с пересылки попав в «придурки», тяготило его страшно, и он завидовал спокойным крепким работягам, мечтая о пиле, топоре, «кубиках»… Эта дурь прошла быстро. Лагерные условия сместили акценты жизненных ценностей. Тепло, сравнительная сытость, надежное место стоили дороже. Возможно, дороже ровно на жизнь: работяг давило бревнами, они замерзали на командировках, ломали руки, ноги, головы, надрывались от непосильных норм…
Уже потом, трясясь в общем вагоне по сибирским просторам, полностью реабилитированный «белобандит» дал себе зарок — вычеркнуть из жизни эти страшные годы, начать жизнь заново, будто ничего этого не было, не было вовсе. Но стоило забыться, расслабиться — и груз пережитого обрушивался потоком воспоминаний, вспышками сцен, лиц, слов. Особенно тяжелы были ночи. Там крепкий сон был беспечностью недопустимой, и Алексей приучился дремать вполглаза. Тогда это спасало, но сейчас, на воле, именно на этом порожке между сном и бодрствованием накатывали кошмарные видения из прошлой жизни.
В Иркутске Алексей без удивления посмотрел на оборванных ребятишек, высыпавших на покосившееся крыльцо домика на Индустриальной, 14, поглазеть на чужого дядьку, выслушал краснолицую бабу, кричавшую ему из дверей: «Мы тута живем, и никаких правов не имеете!..» По счастью, во второй половине дома была жива еще баба Ксения, у которой он попил чаю с морошкой и клюквой, узнал об отце, переночевал, получил пачку старых писем и фотографий — и, вяло удивившись, столовое серебро и мамино золотишко. Милая бабка сожалела и даже извинялась, что не сумела тогда забрать и сберечь «мебелей» и что одно колечко у нее потом украли. Алексей поблагодарил ее, оставил, несмотря на отказы и уговоры, самый толстый браслет, остальное завернул в тряпицу и отправился на вокзал. Он и сам не понимал, что с ним происходит. В последние лагерные месяцы он жил предвкушением воли, авансом переживая счастье и душевный подъем. Ну, вот она, воля — и что? И ничего. Он поймал себя на том, что насильно, натужно заставляет себя чувствовать то, что чувствовать надлежало: радость свободы, печаль по отцу, не оставившему после себя даже могилки, благодарность простой русской старушке, не побоявшейся держать у себя бумаги «шпиона» и сумевшей сберечь для него «цацки», хотя вполне могла бы употребить их по собственной надобности… Но душа заледенела. И с этим панцирем пришел он на вокзал, купил билет на Ленинград, тут же снял грудастую и полупьяную уборщицу и полтора дня, оставшихся до поезда, провел в ее неказистом жилище, проедая и пропивая отцовский хронометр, проданный тут же, на вокзале — впрочем, пропивала в основном она.
Когда стало ясно, что большинство «каэров» подпадает под реабилитацию, начальство в порядке льготы сняло им ограничения на переписку. Алексею писать было некому. Точнее, почти некому. В середине двадцатых, отправившись на КВЖД по зову партии, отец оставил в родном Ленинграде мать и младшего брата, тогда еще студента. Бабушки давно уже не было в живых, а с дядькой Всеволодом завязалась переписка только с приездом в Союз. Письма от дяди Севы были редкими, но пространными и вполне родственными. Он с увлечением писал о своей работе в Институте микробиологии, приглашал в Питер, расспрашивал об их жизни на чужбине и в Сибири. Алексей отправил ему короткое и сдержанное письмо, попросив извинения за долгое молчание и написав, что работает по специальности (а разве нет?) и скоро уходит в отпуск. На ответ он не особенно рассчитывал — дядя по штемпелю и конверту догадается, откуда пришло письмо, и вполне может не захотеть ответить. Ответ, однако же, пришел. Дядя попенял Алексею за то, что долго не давал о себе знать, ловко обозначив между строк, что причину молчания вполне понимает, и пригласил в гости, когда выйдет «отпуск»…
Наличие родственников за границей Всеволода Ивановича Захаржевского не радовало нисколько — и неважно, что оказались они там не по своей воле. Это было единственное темное пятно в его почти безукоризненной анкете. Социальное происхождение было хоть и не рабоче-крестьянским, но ни в коей мере не постыдным. Родители — телеграфист и акушерка, старые члены партии (эсеровской, правда, но об этом лучше было не писать, тем более что выбыли они из партии задолго до революции), нормальная «народная интеллигенция». Прокол с братцем Всеволод Иванович пытался всеми силами замазать — и много в этом преуспел. Перед войной он защитил диссертацию о прогрессивном учении академика Павлова, где весьма изящно доказал, что это учение есть прямое продолжение идей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, развернутое в сферу биологии вообще и микробиологии в частности. Диссертация эта вогнала ученый совет в такую тоску и страх, что Захаржевскому была сразу присуждена докторская степень. После приснопамятной сессии ВАСХНИЛ 1948 года Захаржевский стал членкором. Возвращение родственничков из эмиграции пришлось довольно кстати — из анкеты исчез неприятный пункт, а неловкость, вызванная письмами этих классово подозрительных лиц, была снята незамедлительно: письма от брата Всеволод Иванович тут же показал друзьям из органов, и те порекомендовали ему вступить в самую дружескую переписку, посоветовав знакомить их с посланиями из Иркутска, а заодно уж — и с собственными ответами на эти послания. Даже когда на брата с племянником обрушился карающий меч революционного правосудия, ко Всеволоду Ивановичу не было никаких претензий. Вспоминать о родственниках ему не хотелось.
Письмо от племянника вынула из ящика теща, вредная, жутковатая старуха (ровно на год младше самого членкора, пардон, с 1951 года уже академика), присутствие которой Захаржевский терпел лишь потому, что она взяла на себя все заботы о сыночке — Никитушке, первенце, который появился на свет в семье пятидесятилетнего академика меньше года назад. Выходила малыша, родившегося хилым и болезненным, окуривала, травами, поила, обереги в подушечку зашивала. Молилась еженощно — к ужасу академика, атеиста по должности и убеждениям. Но к году ребеночек выправился, окреп, свесил по плечам розовые щечки. Тогда Всеволод Иванович начал было настраивать молодую жену: не пора ли, мол, пора, не заскучала ли мамочка по родному дому, чадо-то теперь можно и опытной няне препоручить… Но Ада — по паспорту Ариадна Сергеевна — и слушать не стала.
— Только через мой труп, — заявила она. — Ты не соизволил купить мне шубу, которую Зиночка задаром отдавала, а на няню тебе денег не жалко, хотя мама обходится нам почти бесплатно.
— Но, радость моя, у тебя и так есть три шубы…
— В которых стыдно появиться на люди!
— Тогда, может быть, попросим Клаву?
— Чтобы она весь день возилась с малышом, а дом тем временем зарастал грязью?.. А если маленькому опять станет худо, ты подумал?..
— Ну ладно, ладно, только ради Никитушки… Ради Никитушки! Сына академик любил безмерно и ради него готов был на любые жертвы. Чего стоил один переезд? Как приходилось выбивать семикомнатную квартиру вместо прежней четырехкомнатной, маленькой, но такой уютной! А ругаться с идиотами солдатами, пригнанными на ремонт и перевозку вещей? Вместо дуба в гостиной настелили бук, обои перепутали, грохнули любимую зеленую (как у Ильича!) лампу… А теперь еще брать в дом эту юродивую!
Еще слава ВКП(б), что явилась эта лешачиха уже после Вождя, а то с такой тещенькой загремел бы товарищ академик на всю катушку. Подумать только, на известие о том, что родился внук и назван Никитой, эта нежинская стерва прислала телеграмму из двух слов: «Поздравляю прогнувшись». Правда, чего у нее не отнимешь, о младенце пеклась крепко, и Никитушка признавал ее, как никого. «Мама», черная, тощая, смуглая дылда, расхаживала в немыслимых цветных нарядах, беспрестанно смолила «Беломор» (разумеется, не рядом с малышом), сиплым басом ругалась со всеми подряд, привезла с собой два сундука каких-то совершенно ведьминских штучек и забила ими выделенную ей комнату, в которую запретила соваться кому-либо, кроме дочери. Высказывалась же обожаемая так, что Всеволода Ивановича холодный пот прошибал:
— Письмецо тебе, отбайло! Из Сибири, я так понимаю, от умученного тобою брата…
— Побойтесь вы, мама. Я-то тут при чем?
— Тобой ли, твоими ли опричниками красножопыми…
— Не моими, мама, а бериевскими!
— Ну и что? Ты в своем деле тот же Берия, тот же Сралин поганый!
Академик заткнул уши, а когда теща вышла, дрожащими руками вскрыл письмо.
Оно действительно было из лагеря, только не от брата, а от племянника Алексея. В нем сообщалось о смерти отца, о грядущем освобождении, которое Алексей осторожно назвал «отпуском». Академик призадумался. Еще год назад он немедленно отправил бы подобное письмо в мусорную корзину, предварительно порвав на мельчайшие клочки. Нет, отнес бы его к Саладинову в МГБ. Посоветовались бы, решили, что делать… Но теперь, после смерти Усатого и разоблачения Берии, все в стране менялось, тихо, но упорно. Еще висели по учреждениям портреты Отца и Учителя, однако вот и контру выпускать начали, реабилитировать даже. И, как знать, если всерьез начнут ворошить прошлое… Тогда и будущего не останется. Надо бы как-нибудь подстраховаться. А так — «брат и племянник пострадали от кровавых сталинских опричников»… Спасибо, «мама», хорошее словечко подсказала! Нет, племянничка надо приласкать. На всякий случай.
И полетело на Дальстрой теплое, родственное письмо.
IV
Академик стоял на кухне и задумчиво поедал сгущенное какао прямо из банки. Услышав знакомый змеиный свист шелкового халата, он обернулся и посмотрел на вошедшую жену.






 Русанов Владислав
Русанов Владислав Акунин Борис
Акунин Борис Корнев Павел
Корнев Павел Мичурин Артем
Мичурин Артем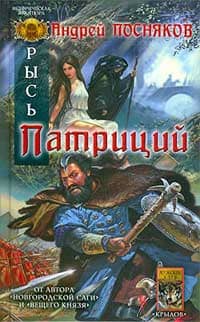 Посняков Андрей
Посняков Андрей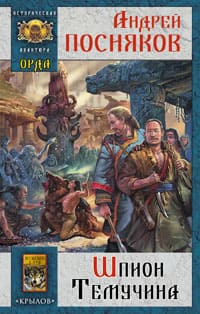 Посняков Андрей
Посняков Андрей