при прощаньи с живым лицом, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как
известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко,
как английская.
16
как золотыми нитками, толпилось три великолепно вотканных друг в друга
столетья, а невдалеке от площади недвижной корабельной чащей дремал флот
этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высовывались из-за
чердаков, галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались
по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уставясь ребром в улицу, всю
ее сковывал мертвой грозой своего недвижно развернутого напора. И в том же
выносном величьи стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее
тихие и глубокие залы. По тем временам это был флот очень сильный. Он
поражал своей численностью. Уже в пятнадцатом веке в нем одних торговых
судов, не считая военных, насчитывалось до трех с половиной тысяч, при
семидесяти тысячах матросов и судорабочих.
сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж
составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное
подземелье. В силках снастей скучал плененный воздух. Флот томил и угнетал.
Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению
поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это - значит понять, как
обманывает искусство своего заказчика.
позднейшего значенья штанов, оно означало лицо итальянской комедии. Но еще
раньше, в первоначальном значеньи, "pianta leone" выражало идею венецианской
победоносности и значило: водрузительница льва на знамени, то есть, иными
словами, - Венеция-завоевательница. Об этом есть даже у Байрона в "Чайльд
Гарольде":
которого сквозь огонь и кровь она несла покоренной суше и морю.
становятся основаниями хорошего тона. Поймем ли мы когда-нибудь, каким
образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки?
для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и
Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала
эта "bocca di leone " современникам и как мало-помалу стало признаком
невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно
изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу
огорчения.
Думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но
именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не
тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели
истлели, дворцы остались.
детства по репродукциям и в вывозном музейном разливе. Но надо было попасть
на их месторождение, чтобы, в отличие от отдельных картин, увидать самое
живопись, как золотую топь, как один из первичных омутов творчества.
17
теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направленьи,
в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным
образом в течение лет, и в своем сжатом заключении я не удалюсь от правды.
вдруг постигается, каково становится видимому, когда его начинают видеть.
Будучи запримечена, природа расступается послушным простором повести, и в
этом состоянии ее, как сонную, тихо вносят на полотно. Надо видеть Карпаччио
и Беллини, чтобы понять, что такое изображение.
при достигнутом тождестве художника и живописной стихии становится
невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего
деятельнее на полотне - исполнитель, исполненное или предмет исполнения.
Именно благодаря этой путанице мыслимы недоразуменья, при которых время,
позируя художнику, может вообразить, будто подымает его до своего
преходящего величья. Надо видеть Веронеза и Тициана, чтобы понять, что такое
искусство.
мало нужно гению для того, чтоб взорваться.
все обнюхивающие, - львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за
жизнью жизнь. Кругом львиный рык мнимого бессмертья, мыслимого без смеху
только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный
повод. Все это чувствуют, все это терпят. Для того чтобы ощутить только это,
не требуется гениальности: это видят и терпят все. Но раз это терпят сообща,
значит, в этом зверинце должно быть и нечто такое, чего не чувствует и не
видит никто.
поверит? Тождество изображенного, изобразителя и предмета изображения, или
шире: равнодушие к непосредственной истине, вот что приводит его в ярость.
Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит
буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти. Надо видеть
Микеланджело Венеции - Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть
художник.
18
сильнее во Флоренции, или, чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после
путешествия зимы в Москве мне приходили в голову другие, более специальные
мысли.
ощущение осязательного единства нашей культуры, в чем бы он его ни видел и
как бы ни называл.
по-разному, - как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение
веры в воскресенье с веком Возрождения - явление необычайное и для всей
европейской образованности центральное. Кто также не замечал анахронизма,
часто безнравственного, в трактовках канонических тем всех этих "Введений",
"Вознесений", "Бракосочетаний в Кане" и Тайных вечерь" с их разнузданно
великосветской роскошью?
особенность нашей культуры.
колыбели. Ее живопись сама доделала для меня то, что я должен был по ее
поводу додумать, и пока я днями переходил из собрания в собрание, она
выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краске наблюдение.
текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное.
Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво
ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века. Я понял,
что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих
очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для
всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным
же, каждый раз новым - актуальный момент текущей культуры.
с помощью которого мы, как ласточки саланганы, построили мир, - огромное
гнездо, слепленное из земли и неба, жизни и смерти и двух времен, наличного
и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепления,
заключающаяся в сквозной образности всех его частиц.
природы. Я не знал, что его существо покоится в опыте реальной биографии, а
не в символике, образно преломленной. Я не знал, что, в отличие от
примитивов, его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья.
Замечательна одна его особенность. Хотя все вспышки нравственного аффекта
разыгрываются внутри культуры, бунтовщику всегда кажется, что его бунт
прокатывается на улице, за ее оградой. Я не знал, что долговечнейшие образы
оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми
руками.
бедности сикстинского плафона, то в применении к потолку, изображающему
создание мира с полагающимися фигурами, Микеланджело, оправдываясь, заметил:
"В те времена в золото не рядились. Особы, здесь изображенные, были людьми
небогатыми".



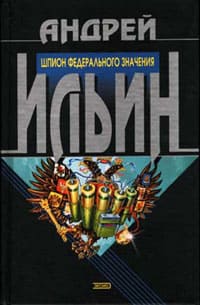


 Березин Федор
Березин Федор Каменистый Артем
Каменистый Артем Мурич Виктор
Мурич Виктор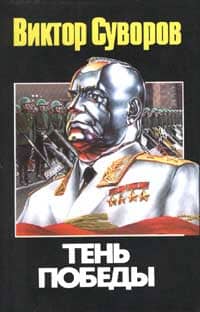 Суворов Виктор
Суворов Виктор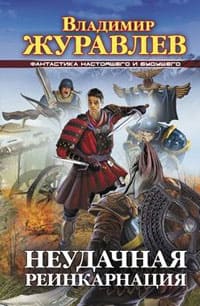 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир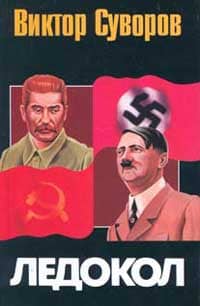 Суворов Виктор
Суворов Виктор