— Но, мама, я сделаю все, что ты хочешь.
— Что я хочу? Я больше ничего не хочу. Одна мысль о том, чтобы извлечь пользу из этой смерти, приводит меня в ужас. Имение Сериса будет разделено между его племянниками и тем самым уничтожено. Этого я и хочу: пусть не останется ничего из того, что принадлежало ей. Я была бы рада, если бы все сгорело. Впрочем, Нума Серис уверен, что так оно и случится, все в конце концов сгорит.
— Но, мама, почему же сейчас все должно сгореть, а раньше не сгорело? Уже давным-давно бьют в набат и одолевают огонь...
— Потому что, говорит Серис, если в будущем и ударит кто-нибудь в набат, никто не придет больше на его зов: на фермах никого не останется. Люди не хотят жить, как волки, в этом захолустье, питаясь черным хлебом и маисовой кашей. Серис говорит, что американским ученым не нужна больше наша смола для извлечения скипидара, а спрос на сосну для шахтных креплений и железнодорожных шпал будет все время падать. И тогда все сгорит, — повторила мама с каким-то безнадежным удовлетворением, — ведь вокруг никого не будет... И почему это только одним деревьям дарована пощада? Они тоже умрут, сгорят заживо. Уж лучше так... Ты думал, что я люблю землю ради земли. А я мечтала, как ты и малышка станете хозяевами всех этих угодий, а я буду оберегать вас обоих и ваши интересы, и смотреть на нее, и видеть, что она счастлива с тобой. Когда настоятель увещевал меня и твердил без конца: «Не унесете же вы свои фермы с собой!», я отвечала ему: «На смертном одре я буду радоваться, что передам их своим детям и оставлю все в отличном состоянии». Я уверяла настоятеля, что земельная собственность долговечна и если страдает она от разделов, то приумножается с помощью браков и наследования и потому смерть ей нипочем. Теперь я знаю, что это неправда. Но что же правда, Ален, что же правда?
Мне оставалось лишь одно: вручить себя в руки божьи и ждать от него того знака, зова, который, возможно, услышу только я и который возвестит час мой. Но я не принимал во внимание того, что без моего ведома, без ведома самой мамы происходило в ее душе, да, буквально «происходило», изменялось и неожиданно вылилось в принятом ею решении, которое вернуло мне свободу.
В День всех святых мы пошли на кладбище отнести цветы маленькой Серис. Я был поражен, что мама не прочла «De Profundis», как обычно читала, приказав мне и Лорану стать на колени, когда мы приходили на могилу бедного папы: «Из глубины взываю к тебе, господи...» Может, в мамином голосе вопреки ее воле это моление звучало слишком драматически, а может, моя собственная тоска придавала ее голосу такое звучание? В этот День всех святых никто не взывал из глубины, из бездны, на краю которой, выпрямившись, стояла мама — старый дуб с еще зеленой листвой, но уже сраженный молнией. Она не преклонила колени, губы ее не шевелились. На обратном пути она сказала:
— Сейчас я приняла решение. Я не вернусь в Бордо. Я буду ждать здесь. А ты можешь отправляться в Париж, как выразилась эта особа в тот день, когда она тебя привезла: «Ему необходимо отправиться в Париж...» — твердила она.
— Но... чего же ты будешь ждать, мама?
Она повторила: «Ждать...» Я напомнил ей, что здесь не будет господина настоятеля, который решил доживать свой век в Бордо, но не во главе какого-нибудь прихода, как он мечтал и надеялся, а наставником в школе женского монастыря.
— Я знаю, но его преемника мне долго ждать не придется.
Мы еще не были знакомы с новым священником: он отказался посетить нас, сначала он решил обойти всех до одного фермеров своего прихода. Он весьма резко объявил бедному настоятелю о своем твердом намерении не превращаться, подобно ему, в «священника при замке».
— Голод не тетка, — сказала мама, — скоро я увижу его здесь с протянутой рукой. А фермерам он понадобится, как обычно, только затем, чтобы освятить новый свинарник. Господин настоятель, впрочем, находит, что его преемник прав, что мы все заблуждались и будем заблуждаться и впредь.
Она шла по дороге твердым шагом, отвечая на приветствия, строго дозируя свои кивки и улыбки в соответствии с общественным положением встречного, и, однако же, в эту пору своей жизни она напоминала мне муху, у которой один мой школьный товарищ, изображая разжалование Дрейфуса, обрывал лапку за лапкой, крыло за крылом. Так и мама изо дня в день лишалась всех своих непоколебимых убеждений. Ничто не было истинным из того, во что она верила, но самым ложным оказалось то, что она принимала за откровение. Даже если сейчас она не сознавала всего с полной ясностью, она воспринимала это как очевидность, мрачно и бесчувственно, как женщина, сраженная утратой ребенка, которого любила больше всего на свете: теперь можно отнять у нее все, она больше ничего не почувствует.
— Когда у нас ничего не остается, — сказал я ей, — когда мы чувствуем себя покинутыми, наступает час, неизбежный для каждого, и приходит наш черед воззвать: «Отец мой, почто ты меня оставил?» Этот час окончательного поражения воплощен в кресте, крест является его символом, непереносимым, неприемлемым для человека в молодом или зрелом возрасте — вплоть до того дня, когда очертания его полностью сольются с очертаниями нашего тела...
Мама прервала меня:
— И нашего сердца.
Меня поразило это слово в ее устах. Значит, она знала, что распинают всегда именно наше сердце? Неужели мы все просто не замечали, что мама жила только сердцем? Может быть, нежность, с какой она относилась к Жаннетте, проявлялась и раньше? Я попытался припомнить. В моей памяти всплыло воспоминание, как после смерти отца в наш старый особняк, куда почти никому не удавалось проникнуть, раз или два в год приходила мамина подруга по монастырской школе Сара М., ирландка или англичанка; она приводила с собой маленькую девочку, «свою воспитанницу», говорила нам мама. Они приезжали откуда-то издалека, похожие на морских птиц, ветром прибитых к берегу во время бурь равноденствия. Рождение этой маленькой девочки, ее звали Андре, было связано с одной из тех тайн, о которых мама говорила: «Это вам еще рано знать». Все было нам еще рано знать, но все входило в меня и ничто теперь не должно пропасть.
Последний арьергардный бой мама дала мне, уговаривая меня поселиться в Париже вместе со студентами-католиками. Я заверил ее, что в двадцать два года я уже достаточно взрослый и меня не только не пугает отсутствие знакомых в Париже, но даже подзадоривает: начать с нуля, попытать счастья в этом вечно повторяющемся завоевании столицы юным провинциалом, без единого рекомендательного письма в кармане.
— Но как ты будешь жить?
— Ну, как всякий прилежный студент, не упускающий ни одного шанса преуспеть. А в первом ряду удач стоят встречи с разными людьми.
Мама спросила:
— Ради добра или ради зла?
— Так просто никогда не бывает. Я уверен, что все встречи, даже самые дурные, послужат ко благу.
— Что ты об этом знаешь, бедный мой дурачок!
И в самом деле, что я об этом знал? Я сам осмыслял свою историю, строил ее произвольно, в согласии со своими целями, приписывал предвечному человеческие побуждения и сам был доволен собственным вымыслом...
Мама больше не слушала меня. Она спросила, какую сумму надо будет высылать мне каждый месяц. Я мог бы ответить, что ей незачем в это вмешиваться, что для распоряжения своим состоянием я не нуждаюсь в посредниках. Это ей и в голову не приходило. До самого конца она будет проверять мои расходы, проводить все воскресные вечера, склонившись над счетными книгами.
ГЛАВА XIII
Ноябрь выдался какой-то лучезарный. Мама проводит меня в Бордо, поможет уложить вещи и вернется одна в Мальтаверн, она это решила твердо. Но я повторял ей без конца, что ничего не хочу решать заранее и останусь с ней, если найду это нужным, хотя вижу, что от меня ей теперь помощи мало. Она не стала спорить хотя бы для виду.
За день до нашего отъезда она попросила меня пойти вместе с ней к мельнице господина Лапейра. Я признался, что и сам хотел пройти еще раз тот путь, но не мог собраться с силами.
— Вдвоем мы сможем, — сказала она.
На маме была городская шляпка, она натянула черные перчатки и раскрыла зонтик. Она не носила траур, она не имела права носить траур по Жаннетте, которая не была ей родственницей, но теперь в ее туалете не проявлялось ни малейшей небрежности, допустимой в деревне, как будто мертвая девочка, неотступно стоявшая перед ней, обязывала ее к строгому соблюдению неписаного церемониала.
Мама, которая обычно редко ходила на прогулки, выступала по песчаной дороге, покрытой ковром сосновых игл, особенно величаво. Когда показалась мельница, она взяла меня под руку, раньше она этого никогда не делала.
— Вот отсюда я ее увидел, — сказал я, — сначала я подумал, что это мальчик.
Мама остановилась. Она долго смотрела на спящую в запруде воду, поверхность которой не тревожило дуновение ветра. Она попросила отвести ее в то место среди папоротника, где я тогда сидел.
— Кажется, это было здесь. Да, здесь.
Она застыла, повернувшись лицом к сонной воде, и тут я увидел, как она, никогда не плакавшая при нас, прижала к глазам затянутую перчаткой руку. Она сказала:
— Дай мне твой платок.
— Пора возвращаться, мама. Вернемся ближним путем.
Она не ответила, вышла из зарослей и направилась к запруде. Нет, это невозможно, нельзя подвергать ее такому испытанию. Я взял ее под руку, но она отстранилась. О, как долго тянулись бесконечные минуты, и я все смотрел на искаженное водой отражение моей матери, одетой по-городскому, в шляпке и в перчатках, под раскрытым зонтиком.
— Вернемся, — сказала она наконец.
Мы пошли по песчаной дороге, которая для маленькой Серис оказалась последней дорогой в ее жизни. Я должен был показать маме, на каком расстоянии от меня то чинно шагала, то весело подпрыгивала бедная Красная Шапочка.
— Ах, — прошептала она, — вот тропинка, по которой она побежала, когда увидела тебя...
— Да, здесь она свернула в лес.
Словно отыскивая затерянный след, мама расспрашивала меня, пристально вглядываясь в землю:
— Ты уверен, что именно здесь она свернула?
В лес мама не пошла. Она стояла неподвижно, возвышаясь над папоротником, лицом к соснам, которые видели все... Я попытался взять ее за руку, но она вырвала ее и, не поворачивая головы, произнесла вполголоса:
— Все оттого, что она тебя боялась. Если бы ты просто не обращал на нее внимания, как всякий юноша твоего возраста на ребенка, она бы и не подумала бежать, ничего не случилось бы, она была бы жива. Она пришла в такой ужас, потому что знала, как ты ее ненавидишь...
— Нет, мама, нет! Она знала, и именно от тебя, что я не хочу этого брака, задуманного из корыстных соображений.
— Не из корыстных. Это ты мне их приписывал.
— Ты никогда ничего такого не говорила, чтоб я мог считать иначе...
— Но ведь ты так ее ненавидел, что я боялась даже произнести при тебе ее имя. Раскрой я тогда рот, ты заставил бы меня замолчать, ты ушел бы, хлопнув дверью. Она знала, что ты дал ей эту мерзкую кличку. Вот отчего она умерла. Да, она была уже ранена насмерть, когда бросилась в лес. Ты давно уже нанес ей этот смертельный удар.
— Ты слишком несправедлива, мама.
Я снова хотел взять ее под руку, но она оттолкнула меня почти грубо и пошла вперед одна, а я тащился следом, повторяя: «Ты слишком несправедлива, слишком несправедлива...» Тогда она полуобернулась и сказала с вызовом:
— Да, все это ты! Все это ты...
— Неужели, мама, ты не видишь, что если я виновен в этом несчастье, то и ты тоже, ты прежде всего. Ведь ты сделала все, чтобы этот план стал мне омерзителен. Ты всегда все решала за меня, но, в конце концов, мне двадцать два года, у меня вся жизнь впереди, а ты собиралась распорядиться ею по своему усмотрению, и напрасно ты отрицаешь — ни о чем другом, кроме земель Сериса, не было и речи. Никогда, ни разу в жизни, не мог я догадаться о твоей привязанности к девочке...
— Потому что я боялась рассердить тебя еще больше, если бы ты узнал, что я люблю ее...
— Больше, чем меня?
Она не ответила. Она поднималась на крыльцо Мальтаверна, останавливаясь на каждой ступеньке. В прихожей она снова оттолкнула меня:
— Мне надо побыть одной. Мне больше никто не нужен. Пойми меня, никто.
Я услыхал, как захлопнулась дверь ее спальни, и присел у камина. Поднялся ветер, сосны, размахивая ветвями, казалось, подавали мне знаки в окно. Их протяжный, жалобный стон сливался с немым криком, который готов был сорваться с моих уст, с ропотом против бога, кротким и безнадежным. Лампу я не зажег. На что мне решиться? Моей матери я сейчас не нужен, больше того, мое присутствие для нее невыносимо. И все-таки я должен охранять ее, быть рядом, чтобы откликнуться на первый ее зов. Ее враждебность смягчится, волей-неволей я стану ее единственным прибежищем: ведь, кроме меня, у нее нет никого. Да, но если она откажется уехать отсюда, что будет со мной? Проведем ли мы с глазу на глаз всю зиму в Мальтаверне или я останусь один на улице Шеврюс, под присмотром Луи Ларпа?
Мысли мои следовали одна за другой без всякой связи. Сам не знаю, сколько времени прошло, сколько я просидел, не зажигая света, у камина. Сумерки за окном сгущались, и я различал уже только два бледных пятна вместо моих рук, лежавших на острых коленях, и тут я услышал на лестнице мамины тяжелые и медленные шаги. Ужинать было еще рано. Значит, она возвращалась ко мне. Она вошла. Я не встал с кресла. Она провела рукой по моему лбу и откинула волосы назад, как бывало в детстве, чтобы поцеловать меня, но в этот вечер поцелуя не последовало. Тем не менее она заговорила с вымученной нежностью, вообще ей не свойственной.
— Забудем все, что мы наговорили друг другу, бедный мой мальчик. Мы оба были несправедливы. Помню, я огорчалась, когда ты уверял, что между нами нет никакого обмена мыслями, что мы никогда друг с другом не разговариваем по-настоящему, как в пьесах или в романах. Ну что ж, по дороге с мельницы мы наверстали упущенное.
— Да, все это произошло против нашей воли.
— Все, что произошло, надо забыть, — во всяком случае, забудь, что наговорила я. Мне нужно было на кого-то пожаловаться, на кого-то свалить вину. И тебе тоже... Вот мы и сваливали друг на друга...
— Да, — ответил я мрачно, — как два сообщника на суде, обвиняющие один другого.
Она сказала:
— Замолчи!
Я не видел ее лица, но слышал, что она плачет. Я встал, обнял ее, попросил прощения
— Нашей вины тут не было, мама. А то, что от нас зависело, могло привести на худой конец только к недоразумению, и оно бы рассеялось, даже очень быстро рассеялось: ведь мне не терпелось узнать, кто эта купальщица, и я узнал бы это в тот же вечер, не приди телеграмма от Симона.
— Это ничего бы не изменило. К тому времени все уже свершилось.
— Да, мама, и ни ты, ни я не виноваты в этом ужасном совпадении. Такие преступления всегда бывают вызваны случайностью. Всегда можно сказать: «Если бы девочка пошла другой дорогой...»
Она прошептала:
— Теперь все кончено. Это было, это свершилось.
Мы сидели молча. Я различал только неясную темную фигуру в кресле напротив.





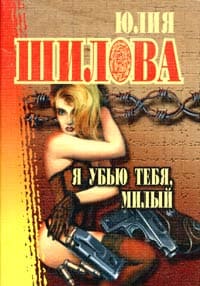
 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Каменистый Артем
Каменистый Артем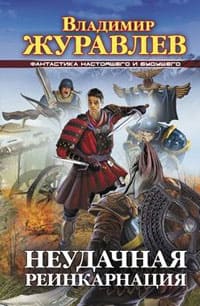 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир Василенко Иван
Василенко Иван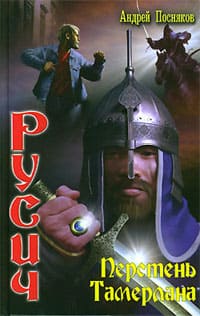 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия