та же музыка, позвякивание стаканов и аромат духов, исходящий от каждой
соблазнительной попки и заглушающий обычный смрад жизни, даже тот, что
внизу, в уборной.
совершенно меня не испортило. Расставаться с ней было тяжело, это правда.
Обычно я заводил ее в маленькую церковку недалеко от редакции, и там, стоя в
темноте под лестницей, мы обнимались в последний раз. Она всегда шептала:
и день и ночь занимался с ней .любовью; она даже перестала говорить о России
-- ведь мы были вместе. Но стоило нам расстаться, как в голове у меня
прояснялось. Совершенно другая музыка, не такая дурманящая, но тоже
приятная, встречала меня, как только я открывал дверь. И другие духи -- не
такие экзотические, но зато ( слышные повсюду: смесь пота и пачулей, которой
пахло от рабочих. Приходя под хмельком, как это чаще всего бывало, я
чувствовал что теряю высоту. Обычно я направлялся прямо в уборную -- это
слегка освежало меня. Там было прохладнее, или, скорее, звук льющейся воды
создавал эту иллюзию. Уборная заменяла мне холодный душ, возвращала к
действительности. Чтобы попасть туда, надо было пройти мимо переодевавшихся
рабочих-французов. Ну и вонь же шла от них, от этих козлов, несмотря на то,
что их труд хорошо оплачивался. Они стояли здесь, бородатые, в длинных
подштанниках -- нездоровые, истощенные люди со свинцом в крови. В уборной
можно было познакомиться с плодами их раздумий -- стены были покрыты
рисунками и изречениями, по-детски похабными и примитивными, но в общем
довольно веселыми и симпатичными. Чтобы добраться до некоторых из этих
надписей, пришлось бы принести лестницу, но, пожалуй, это стоило бы сделать
-- даже из чисто психологических соображений. Иногда, пока я мочился, я
думал о том, какое впечатление вся эта литература произвела бы на шикарных
дам, которых я видел входящими и выходящими из великолепных туалетов на
Елисейских полях. Любопытно, так ли бы они задирали свои хвосты, если б
знали, что о них здесь думают? Наверное, они живут в мире из бархата и газа.
По крайней мере такое впечатление они создают, шурша мимо вас в облаках
благоухания. Конечно, кое-кто из них не всегда был столь благороден, и,
проплывая мимо вас, они попросту рекламируют свой товар. И, возможно, когда
они остаются наедине с самими собой в своих будуарах, с их губ срываются
очень странные слова, потому что их мир, да и всякий другой, состоит главным
образом из грязи и погани, вонючей, как помойное ведро, -- только им
посчастливилось прикрыть его крышкой.
на меня плохого действия. Когда случалось выпить лишнего, я засовывал два
пальца в глотку: у корректора должна быть ясная голова -- ведь для поисков
пропущенной запятой нужна большая сосредоточенность, чем для рассуждений о
философии Ницше. У пьяного воображение может разыграться самым блестящим
образом, но в корректуре блеска не требуется. Даты, дроби и точки с занятыми
-- вот что важно. Но они-то и ускользают от вас, когда голова не варит.
Время от времени я пропускал серьезные ошибки, и если бы я не научился с
самого начала лизать жопу главному корректору, меня бы давно уже выгнали. Я
начал разыгрывать из себя полного кретина, что здесь очень ценилось. Иногда
я подходил к старшему корректору и, чтобы польстить ему, спрашивал значение
того или другого слова. Мое единственное несчастье состояло в том, что я
знал слишком много. Это вылезало наружу, несмотря на все мои старания. Если
я приходил на работу с книгой под мышкой, он немедленно замечал это и, если
книга была хорошая, становился язвительным. Я никогда не хотел сознательно
его поддеть; я слишком дорожил своей работой, чтоб добровольно набрасывать
себе петлю на шею. Тем не менее очень трудно разговаривать с человеком, с
которым у вас нет ничего общего, и не выдать себя, даже если вы
ограничиваетесь односложными словами.
свежего воздуха, я словно с цепи срывался, причем тема разговора не имела ни
малейшего значения. Когда мы рано утром начинали путь на Монпарнас, я
немедленно направлял на нее пожарный шланг своего красноречия, и скоро от
этой темы оставалось одно воспоминание. Особенно я любил говорить о вещах, о
которых никто из нас не имел ни малейшего представления. Я развил в себе
легкую форму сумасшествия -- кажется, она называется "эхолалия". Я готов был
говорить обо всем, о чем шла речь в последней верстке. И вот что смешно: я
могу исколесить в воображении весь мир, но мысль об Америке не приходит мне
в голову. Она для меня дальше, чем потерянные континенты, потому что сними у
меня есть какая-то таинственная связь, но по отношению к Америке я не
чувствую ничего. Правда, порой я вспоминаю Мону, но не как личность в
определенном разрезе времени и пространства, а как что-то отвлеченное,
самостоятельное, как если бы она стала огромным облаком из совершенно
забытого прошлого. Я не могу себе позволить долго думать о ней, иначе мне
останется только прыгнуть с моста. Странно. Ведь я совершенно примирился с
мыслью, что проживу свою жизнь без Моны, но даже мимолетное воспоминание о
ней пронзает меня до мозга костей, отбрасывая назад в ужасную грязную канаву
моего безобразного прошлого.
Если бы христианин был так же верен своему Богу, как я верен ей, мы все были
бы Иисусами. Днем и ночью я думал только о ней, даже когда изменял. Мне
казалось, что я наконец освободился от нее, но это не так; иногда, свернув
за угол, я внезапно узнаю маленький садик -- несколько деревьев и скамеек,
-- где мы когда-то стояли и ссорились, доводя друг друга до исступления
дикими сценами ревности. И всегда это происходило в пустынном, заброшенном
месте -- на площади Эстрапад или на занюханных и никому не известных улочках
возле мечети или авеню Бретей, зияющей, как открытая могила, где так темно и
безлюдно уже в десять часов вечера, что у вас является мысль о самоубийстве
или убийстве, о чем-то, что могло бы влить хоть каплю жизни в эту мертвую
тишину. Когда я думаю о том, что она ушла, ушла, вероятно, навсегда, передо
мной разверзается пропасть и я падаю, падаю без конца в бездонное черное
пространство. Это хуже, чем слезы, глубже, чем сожаление и боль горя; это та
пропасть, в которую был низвергнут Сатана. Оттуда нет надежды выбраться, там
нет ни луча света, ни звука человеческого голоса, ни прикосновения
человеческой руки.
когда-нибудь время, когда она будет опять рядок со мной; все эти голодные,
отчаянные взгляды, которые я бросал на дома и скульптуры, стали теперь
невидимой частью этих скульптур и домов, впитавших мою тоску. Я не могу
забыть, как мы бродили вдвоем по этим жалким, бедным улочкам, вобравшим мои
мечты и мое вожделение, а она не замечала и не чувствовала ничего: для нее
это были обыкновенные улочки, может быть, более грязные, чем в других
городах, но ничем не примечательные. Она не помнила, что на том углу я
наклонился, чтобы поднять оброненную ею шпильку, а на этом -- чтобы завязать
шнурки на ее туфлях. А я навсегда запомнил место, где стояла ее нога. И это
место сохранится даже тогда, когда все эти соборы превратятся в развалины, а
европейская цивилизация навсегда исчезнет с лица Земли.
одиночества я шел по улице Ломон, некоторые веши открылись мне с необычайной
ясностью. Было ли это потому, что я вспомнил фразу, сказанную Моной, когда
мы стояли на площади Люсьена Эрра, -- не знаю. "Почему ты не покажешь мне
тот Париж, -- сказала она, -- Париж, о котором ты всегда пишешь?" И тут я
внезапно ясно понял, что не смог бы никогда раскрыть перед нею тот Париж,
который я изучил так хорошо, Париж, в котором нет арондисманов, Париж,
который никогда не существовал вне моего одиночества и моей голодной тоски
по ней. Такой огромный Париж! Целой жизни не хватило бы, чтобы обойти его
снова. Этот Париж, ключ к которому -- только у меня, не годится для
экскурсий даже с самыми лучшими намерениями;
через тысячи утонченных страданий. Париж, который растет внутри вас, как
рак, и будет расти, пока не сожрет вас совсем.
улице Муфтар и внезапно припомнил один эпизод из моего прошлого, из того
путеводителя, страницы которого Мона просила меня открыть. Но переплет его
был так тяжел, что у меня не хватило сил это сделать. Ни с того ни с сего --
ибо мои мысли были заняты Салавеном, через священные кущи которого я тогда
проходил, -- итак, ни с того ни с сего мне вдруг вспомнилось, как однажды я
заинтересовался мемориальной доской на пансионе "Орфила", которую видел чуть
ли не ежедневно, и, поддавшись внезапному импульсу, зашел туда и попросил
показать мне комнату, где жил Стриндберг. В то время еще ничего ужасного со
мной не случилось, хотя я уже знал, что значит быть бездомным и голодным и
что значит бегать от полиции.
Стриндберга такое огромное удовольствие. Помню, как она смеялась до слез
после какого-нибудь восхитительного пассажа, а потом говорила: "Ты. такой же
ненормальный, как он... ты хочешь, чтобы тебя мучили!"
мазохиста и перестать кусать себя, убеждаясь в остроте собственных зубов. В
те дни, когда мы только познакомились, воображение Моны было занято
Стриндбергом. Этот сумасшедший карнавал, на котором он веселился, эта
постоянная борьба полов, эта паучья свирепость, которая сделала его любимым
писателем отупелых северных недотеп, -- все это свело нас с Моной. Мы начали
вместе пляску смерти. и меня затянуло в водоворот с такой быстротой, что
когда я наконец вынырнул на поверхность, то не мог уже узнать мир. Когда я
освободился, музыки уже не было, карнавал кончился и я был ободран до
костей...
Ниневия. Пуп земли, к которому приползаешь на карачках, как слепой,


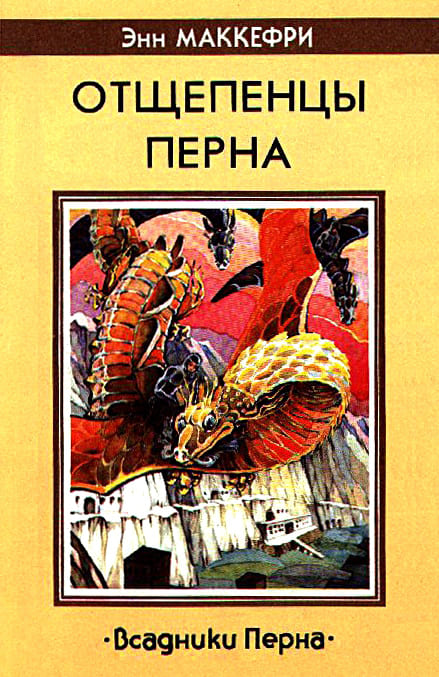
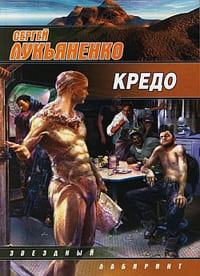


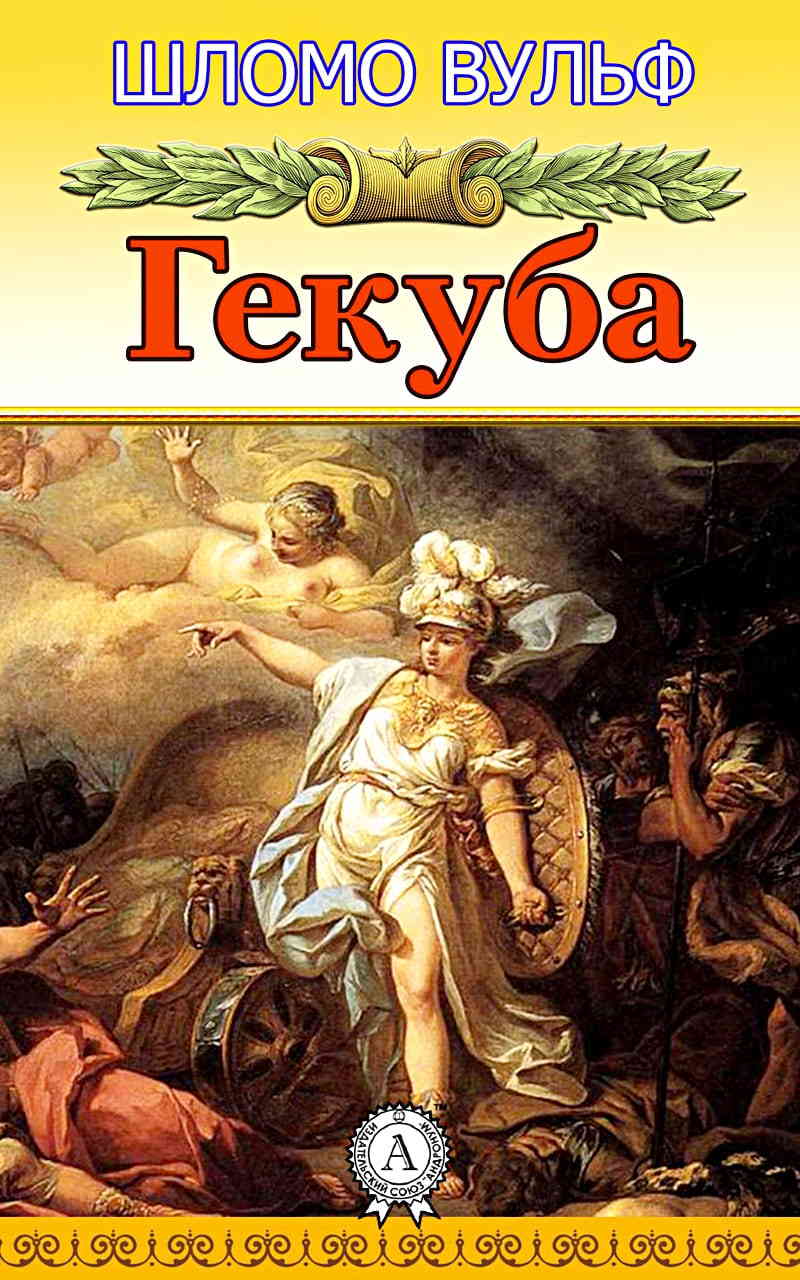 Шломо Вульф
Шломо Вульф Каменистый Артем
Каменистый Артем Мурич Виктор
Мурич Виктор Шилова Юлия
Шилова Юлия Доставалов Александр
Доставалов Александр Орлов Алекс
Орлов Алекс