существующую между ними в массовом сознании, в дотоле синтаксически
малодоступные языковые сферы - вверх. И проза, где опасность стилистического
тупика гораздо выше, чем в поэзии, от этого перемещения только выигрывает:
там, в разреженном воздухе своего синтаксиса, Цветаева сообщает ей то
ускорение, в результате которого меняется самое понятие инерции.
"Телеграфный стиль", "поток сознания", "литература подтекста" и т. п. не
имеют к сказанному никакого отношения. Произведения ее современников, не
говоря уж об авторах последующих десятилетий, к творчеству которых подобные
дефиниции приложимы, всерьез читать можно по соображениям, главным образом,
ностальгическим либо историко-литературоведческим (что, в сущности, одно и
то же). Литература, созданная Цветаевой, есть литература "надтекста",
сознание ее если и "течет", то в русле этики; единственное, что сближает ее
стиль с телеграфным, это главный знак ее пунктуации - тире, служащий ей как
для обозначения тождества явлений, так и для прыжков через само собой
разумеющееся. У этого знака, впрочем, есть и еще одна функция: он многое
зачеркивает в русской литературе XX века.
Ахматова. То же самое, частично, можно сказать и об интонации Цветаевой в
прозе. Таково было свойство ее голоса, что речь почти всегда начинается с
[того] конца октавы, в верхнем регистре, на его пределе, после которого
мыслимы только спуск или, в лучшем случае, плато. Однако настолько трагичен
был тембр ее голоса, что он обеспечивая ощущение подъема, при любой
длительности звучания. Трагизм этот пришел не на биографии: он был [до].
Биография с ним только совпала, на него - эхом - откликнулась. Он, тембр
этот, явственно различим уже в "Юношеских стихах":
ничего другого, кроме как следовать за голосом, постоянно от него отставая,
ибо голос - перегонял события: как-никак, скорость звука. Опыт вообще всегда
отстает от предвосхищения.
между искусством и действительностью. Одно из них состоит в том, что в
искусстве достижима - благодаря свойствам самого материала - та степень
лиризма, физического эквивалента которому в реальном мире не существует.
Точно таким же образом не оказывается в реальном мире и эквивалента
трагическому в искусстве, которое - трагическое - суть оборотная сторона
лиризма - или следующая за ним ступень. Сколь бы драматичен ни был
непосредственный опыт человека, он всегда перекрывается опытом инструмента.
Поэт же есть комбинация инструмента с человеком в одном лице, с постепенным
преобладанием первого над вторым. Ощущение этого преобладания ответственно
за тембр, осознание его - за судьбу.
особенно - к автобиографической прозе. В цветаевском случае это, конечно же,
не попытка переверстать историю - слишком поздно: это, скорее, отступление
из действительности в доисторию, в детство. Однако это не
"когда-еще-все-известно", но "еще-ничего-не-началось", детство зрелого
поэта, застигнутого посредине его жизни жестокой эпохой. Автобиографическая
проза - проза вообще - в таком случае всего лишь передышка. Как всякое
отступление, она - лирична и временна. (Это ощущение - отступления и
сопутствующих ему качеств - присутствует и в большинстве ее эссе о
литературе, наравне с сильным автобиографическим элементом. Благодаря этому
ее эссе оказываются в гораздо большей степени "литературой в литературе",
чем вся современная "текстология текста".) По существу, вся цветаевская
проза, за исключением дневниковых записей, ретроспективна; ибо только
оглянувшись и можно перевести дыхание.
ее замедленного, по сравнению с поэтической речью, течения: роль эта - чисто
терапевтическая, это роль соломинки, за которую всем известно кто хватается.
Чем подробней описание, тем необходимей соломинка. Вообще: чем более
"тургеневски" такое произведение построено, тем "авангарднее" обстоятельства
времени, места и действия у самого автора. Даже пунктуация и та приобретает
дополнительную нагрузку. Так точка, завершающая повествование, обозначает
его физический конец, предел, обрыв в действительность, в не-литературу.
Неизбежность и близость этого обрыва, самим же повествованием и
регулируемая, удесятеряет стремление автора к совершенству в отпущенных ему
пределах и, частично, даже упрощает ему задачу, заставляя отбрасывать все
лишнее.
преобладания звука над действительностью, сущности над существованием:
источник трагедийного сознания. По этой стезе Цветаева прошла дальше всех в
русской и, похоже, в мировой литературе. В русской, во всяком случае, она
заняла место чрезвычайно отдельное от всех - включая самых замечательных -
современников, отгородившись от них стеной, сложенной из отброшенного
лишнего. Единственный, кто оказывается с ней рядом - и, прежде всего, именно
как прозаик, - это Осип Мандельштам. Параллелизм Цветаевой и Мандельштама
как прозаиков и в самом деле замечателен: "Шум времени" и "Египетская марка"
могут быть приравнены к "Автобиографической прозе", "Статьи о поэзии" и
"Разговор о Данте" -к цветаевским литературным эссе и "Поездка в Армению" и
"Четвертая проза" - к "Страницам из дневника". Стилистическое сходство -
внесюжетность, ретроспективность, языковая и метафорическая спрессованность
- очевидно даже более, чем жанровое, тематическое, хотя Мандельштам и
несколько более традиционен.
сходством биографий двух авторов или общим климатом эпохи. Биографии никогда
наперед неизвестны, также как "климат" и "эпоха" - понятия сугубо
периодические. Основным элементом сходства прозаических произведений
Цветаевой и Мандельштама является их чисто лингвистическая перенасыщенность,
воспринимаемая как перенасыщенность эмоциональная, нередко таковую
отражающая. По "густоте" письма, по образной плотности, по динамике фразы
они настолько близки, что можно заподозрить если не кровные узы, то
кружковщину, принадлежность к общему -изму. Но если Мандельштам и был
акмеистом, Цветаева никогда ни к какой группе не принадлежала, и даже
наиболее отважные из ее критиков не сподобились нацепить на нее ярлык.
Разгадка сходства Цветаевой и Мандельштама в прозе находится там же, где
находится причина их различия как поэтов: в их отношении к языку, точнее - в
степенях их зависимости от оного.
существования языка. Чисто технически, конечно, она сводится к размещению
слов с наибольшим удельным весом в наиболее эффективной и внешне неизбежной
последовательности. В идеале же - это именно отрицание языком своей массы и
законов тяготения, это устремление языка вверх - или в сторону - к тому
началу, в котором было Слово. Во всяком случае, это - движение языка в до
(над) жанровые области, т. е. в те сферы, откуда он взялся. Кажущиеся
наиболее искусственными формы организации поэтической речи - терцины,
секстины, децимы и т. п. - на самом деле всего лишь естественная
многократная, со всеми подробностями, разработка воспоследовавшего за
начальным Словом эха. Поэтому Мандельштам, как поэт внешне более формальный,
чем Цветаева, нуждался в избавляющей его от эха, от власти повторного звука,
прозе ничуть не меньше, чем она с ее внестрофическим - вообще внестиховым -
мышлением, чья главная сила в придаточном предложении, в корневой
диалектике.
по-разному: логически, фонетически, грамматически, в рифму. Так развивается
язык, и если не логика, то фонетика указывает на то, что он требует себе
развития. Ибо то, что сказано, никогда не конец, но край речи, за которым -
благодаря существованию Времени - всегда нечто следует. И то, что следует,
всегда интереснее уже сказанного - но уже не благодаря Времени, а скорее
вопреки ему. Такова логика речи, и такова основа цветаевской поэтики. Ей
всегда не хватает места: ни в стихотворении, ни в прозе; даже ее наиболее
академически звучащие эссе - всегда как вылезающие за порог объятья.
Стихотворение строится по принципу сложноподчиненного предложения, проза
состоит из грамматических enjambements: так она спасается от тавтологии.
(Ибо вымысел в прозе играет ту же роль по отношению к реальности, что и
рифма в стихотворении.) Служенье Муз прежде всего тем и ужасно, что не
терпит повторения: ни метафоры, ни сюжета, ни приема. В обыденной жизни
рассказать тот же самый анекдот дважды, трижды - не преступление. На бумаге
же позволить это себе невозможно: язык заставляет вас сделать следующий шаг
- по крайней мере, стилистически. Естественно, не ради вашего внутреннего
(хотя впоследствии оказывается, что и ради него), но ради своего
собственного стереоскопического (-фонического) благополучия. Клише -
предохранительный клапан, посредством которого искусство избавляет себя от
опасности дегенерации.
положении он оказывается. Метод исключения в конечном счете обычно
оборачивается против того, кто этим методом злоупотребляет. И если бы речь
не шла о Цветаевой, в обращении поэта к прозе можно было бы усмотреть своего
рода литературную "nostalgie de la boue", желание слиться с (пишущей)
массой, стать, наконец, "как все". Мы, однако, имеем дело с поэтом, с самого
начала знавшим, на что идет, или: куда язык ведет. Мы имеем дело с автором
слов "Поэт издалека заводит речь / Поэта далеко заводит речь...", мы имеем
дело с автором "Крысолова". Проза для Цветаевой отнюдь не убежище, не форма
раскрепощения - психического или стилистического. Проза для нее есть
заведомое расширение сферы изоляции, т. е. - возможностей языка.
и может двигаться. (По сути дела, все существующее искусство уже - клише:
именно потому, что уже существует.) И постольку, поскольку литература
является лингвистическим эквивалентом мышления, Цветаева, чрезвычайно далеко




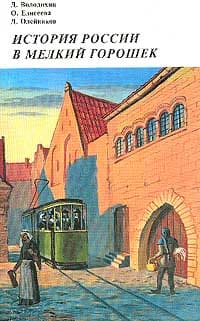
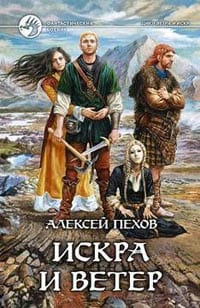
 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Эриксон Стивен
Эриксон Стивен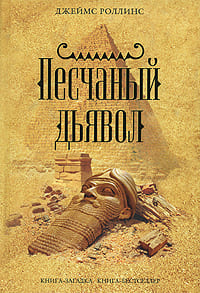 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур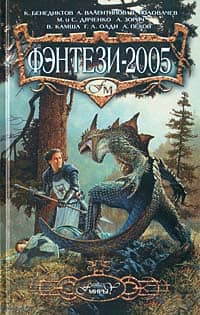 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Афанасьев Роман
Афанасьев Роман