знакомым мне раньше? Она была такая домашняя, моя тетя Каролина. Ее лицо было
тронуто оспой, но такое доброе, обаятельное лицо не мог испортить никакой
физический недостаток. Она была чудовищно толста, а голос ее звучал мягко,
ласкающе. Со мной она обращалась, казалось, с большим вниманием и
предупредительностью, чем с собственным сыном. Мне хотелось жить у них всегда, и
я бы назвал ее своей матерью, если бы это было позволительно. Я отчетливо помню,
как моя мать, навестив нас, рассердилась, что я вполне доволен новой жизнью. Она
даже сказала, что я неблагодарный, и это я никогда не забуду, поскольку именно
тогда я понял впервые, что быть неблагодарным иногда необходимо и некоторым
полезно. Только я закрою глаза и начну вспоминать о ломте хлеба -- сразу же
думаю, что в этом доме я не знал, что такое получить нагоняй. Мне кажется,
признайся я тете Каролине в том, что убил человека, расскажи ей в точности все,
как было дело, -- она обняла бы меня и простила, сразу же. Может быть, именно
поэтому то лето так дорого мне. То было лето молчаливого и полного отпущения
грехов. Вот почему я не могу забыть и Уизи. Ее наполняла природная доброта,
девочку, полюбившую меня и ни разу не упрекнувшую меня. Она стала первым
существом противоположного пола, которое восхитилось тем, что я отличаюсь от
остальньных. После уизи много чего случилось. Меня любили, но и ненавидели тоже
за то, каким я был. Уизи попыталась меня понять. Ее влекло ко мне то, что я
приехал из незнакомой страны, говорю на другом языке. Мне никогда не забыть
сияние ее глаз, когда она представляла меня своим маленьким приятелям; казалось,
ее глаза сгорают от любви и восхищения. Мы часто гуляли втроем по берегу реки
вечерами, сидели у воды, говорили о том, о чем говорят все дети, когда их не
видят взрослые. В наших разговорах, теперь я это хорошо понимаю, было гораздо
больше здравомыслия и глубины, чем в разговорах наших родителей. Чтобы давать
нам всякий
120
день толстый ломоть хлеба, нашим родителям приходилось дорого платить.
Тяжелейшей расплатой было то, что они отдалялись от нас. Ибо с каждым ломтем,
которым они нас питали, мы становились не просто равнодушней к ним, но мы
становились высокомерней. В нашей неблагодарности мы видели нашу силу и красоту.
Мы не сознавали, что наше отдаление преступно. Гибель мальчика, то, как он лежал
бездыханный, не кричал и не плакал, показалась забавным, веселым представлением.
С другой стороны, борьба за ему казалась унизительной и постыдной, и когда к нам
подходили родители, мы чувствовали, что они нечисты, и не могли простить им это.
Толстый ломоть хлеба по утрам казался особенно приятным на вкус как раз потому,
что он не был нами заработан. Никогда впредь хлеб не покажется таким вкусным.
Никогда впредь мы не получим его таким способом. А в день убийства он был
вкуснее, чем когда бы то ни было. Он имел привкус страха, которого с тех пор
недоставало. И тетя Каролина в тот день молчаливо, но полностью отпустила нам
наши грехи.
Есть еще нечто в ржаном хлебе, во что я пытаюсь вникнуть -- что-то смутно
вкусное, устрашающее и освобождающее, нечто, связанное с первыми открытиями. Я
вспоминаю о другом куске ржаного хлеба, относящемся к более раннему периоду,
когда я со своим дружком Стенли повадился запускать руку в чулан. То был
ворованый хлеб, и потому на вкус восхитительный: восхитительней, чем хлеб,
протянутый с любовью. В акте вкушения ржаного хлеба, в прогулках и беседах,
сопровождавших его, было нечто сродни откровению. Как состояние милости,
состояние полного неведения, самоотречения. Что бы я ни узнавал в такие минуты,
все, казалось, остается во мне нетронутым и не было страха, что я когда-нибудь
потеряю приобретенное знание. Может, так происходило потому, что это не было
знанием в привычном нам значении. Это было похоже на приобретение истины, хотя
истина тоже всего только слово. Самое главное в разговорах за куском ржаного
хлеба заключалось в том, что они происходили вне дома, вне глаз наших родителей,
которых мы опасались, но не уважали. Предоставленные самим себе, мы не имели
пределов для воображения. Факты мало значили для нас; к любому предмету мы
подходили только как к возможности поговорить. Оглядываясь назад, я теперь
удивляюсь, как здорово мы понимали друг друга, как глубоко мы проникали в самую
суть характера любого -- юнца и старика.
В ceмь лет мы уже знали наверняка: этот парень попадет в тюрьму, этот станет
работягой, а тот ни на что не годится, и так далее. Наши диагнозы были абсолютно
точны, точ-
121
нее, например, заключений наших родителей, или учителей, и куда точнее так
называемых заключений психологов. Альфи Бетча превратился в тунеядца; Джонни
Герхардт угодил на каторгу; Боб Кунст стал рабочей лошадью. Безошибочные
предсказания. Знания, которые мы получали, только притупляли наше зрение. С
первого дня, проведенного в школе, мы не научились ничему; напротив, мы стали
бестолковыми, окутались туманом слов и абстракций.
Кусок ржаного хлеба открыл нам мир в его существе: примитивный мир, управляемый
волшебством, мир, в котором страх играет ведущую роль. Мальчик, способный
нагнать больше страха, становился заводилой и оставался таковым, доколе сохранял
свою власть. Были и другие мальчишки, бунтари, ими восхищались, но они никогда^
не становились заводилами. Большинство служило глиной в руках бесстрашных;
меньшинство подчиняло остальных. В воздухе висело напряжение -- ничто не могло
быть предсказано на завтра. Эти свободные, простейшие ядра общества возбуждали
острые потребности, острые эмоции, острое любопытство. Ничто не давалось даром;
каждый день готовил новое испытание силы, новое поражение. Так вот, вплоть до
девяти-десяти лет мы ощущали истинный вкус жизни: мы были сами собой. Точнее, те
из нас, кто не был избалован вниманием родителей, кто мог спокойно гулять по
улицам вечерами и открывать мир собственными глазами.
С некоторым сожалением я думаю о том, что порядочно ограниченная жизнь в раннем
детстве кажется теперь беспредельной вселенной, тогда как дальнейшая жизнь,
жизнь взрослого человека, постоянно сжимается. С момента поступления в школу
человек становится несчастным: у него возникает ощущение петли вокруг шеи. И
хлеб, и жизнь лишаются вкуса. Добывать хлеб становится более важным занятием,
чем его есть. Все подсчитано, и на всем проставлена цена.
Мой двоюродный брат Джин стал совершенным ничтожеством; Стенли -- первостатейным
неудачником. Кроме них двоих, к которым я испытывал величайшее восхищение, был
еще третий, Джо, который заделался письмоносцем. Я чуть не плачу, когда думаю,
что с ним сделала жизнь. Мальчишки они были замечательные, хуже всех Стенли,
поскольку у него был горячий темперамент. Стенли часто приходил в бешенство,
никто не знал, что он выкинет на следующий день. А Джо и Джин были воплощенной
добродетелью; они были друзьями в стародавнем значении этого слова. Я часто
думаю о Джо, когда выезжаю в сельскую местность, поскольку он был что назы-
122
вается сельским пареньком. А это означает прежде всего то, что он был преданнее,
искреннее, нежнее остальных знакомых мальчишек. Я будто вижу: Джо встречает
меня, он уже бежит, широко распахнув объятия, не успев как следует перевести
дух, рассказывает об играх и приключениях, в которых предполагалось мое участие.
Он как всегда нагружен подарками, припасенными к моему приезду. Джо принимал
меня как монархи прежних времен принимали своих гостей. На что я ни бросил бы
взгляд -- все становилось моим. Мы не могли исчерпать темы наших бесед, и
никогда нам не наскучивало болтать. Разница между нашими мирами была огромна.
Хотя я тоже жил в этом городе, но, приехав к двоюродному брату Джину, я понял,
как огромен этот город, а именно Нью-Йорк-Сити, в котором моя искушенность была
ничто. Стенли знал только ближние окрестности, но он приплыл из далекой земли за
морем, из Польши, и нас всегда разделяла отметина этого вояжа. А то, что он
умеет изъясняться на другом языке, лишь усиливало наше восхищение. Каждый был
окружен особой аурой, отличался индивидуальностью, сохраняемой в полной
неприкосновенности. Вступив в жизнь, мы утратили эти черты различия и стали
более или менее похожи друг на друга и, конечно, совершенно не похожи на самих
себя. Именно эта утрата своей особенной души, и, может быть, незначительных
индивидуальных черт, печалит меня и заставляет отдать должное ржаному хлебу.
Прекрасный ржаной хлеб вошел в наше нутро; он был словно общий каравай, который
готовили все вместе, а получил каждый по-разному, сообразно своим представлениям
о приличии. И теперь мы едим один и тот же хлеб, но нет ни чувства общности, ни
приличий. Мы едим, дабы набить брюхо, а наши сердца остаются холодными и
пустыми. Мы разделились, но не стали индивидуальностями.
А еще мы часто ели ржаной хлеб вприкуску с сырым луком. Помню, как мы стояли со
Стенли, держа в руке по бутерброду, напротив дома ветеринара. Близился вечер.
Казалось, доктор Маккини нарочно выбирает конец дня для кастрации жеребцов,
операции, всегда совершаемой публично в присутствии небольшой толпы. Помню запах
раскаленного железа и трепет лошадиных ног, эспаньолку доктора Маккини, вкус
луковицы и запах нечистот из нового коллектора на задах. Это являло собой чисто
обонятельное действо, и практически безболезненное. Его так хорошо описал
Абеляр. Не ведая о причинах операции, мы обычно после пускались в долгие
дискуссии, которые оканчивались шумной ссорой. Нам не нравился доктор Маккини:
от него пахло йодоформом и застарелой конской
123
мочой. Нередко сточная канавка перед его домом была полна крови, а в зимнее
время кровь вмерзала в лед и придавала тротуару странный вид. Иногда подъезжала
большая двухколесная повозка, открытая повозка, издававшая чудовищный запах. В
эту повозку грузили павшую лошадь. Скорее, тушу поднимали на длинной цепи, со
скребущим звуком, словно опускали якорь. Запах от раздувшейся дохлой лошади --
это жуткая вонь, но наша улица вся пропиталась мерзкими запахами. На углу
расположилась лавочка Пола Соера, рядом с ней на улице были сложены сырые и
дубленые шкуры; они тоже воняли по-страшному. А еще острый дух от оловянной
фабрики за нашим домом -- как запах современного прогресса. Запах дохлой лошади,
почти невыносимый, все-таки в тысячу раз лучше запаха химических реактивов. А
вид дохлой лошади с отверстием от пули в черепе, головой в луже крови и задним
проходом, раздвинутым последним судорожным испражнением, все же лучше, чем вид
группы мужчин в синих халатах, выходящих из арочных ворот оловянной фабрики с
тележками, груженными только что изготовленной оловянной посудой. К счастью для
нас, напротив оловянной фабрики находилась пекарня. Через открытую дверь черного
хода мы наблюдали за работой пекарей и вдыхали сладкий всепобеждающий запах
хлеба и булочек. Поскольку, как я сказал, на задах проходил коллектор, ко всем
перечисленным запахам добавлялась странная смесь запаха разрытой земли, ржавых
железных труб, канализационных испарений и луковых сандвичей, которые
итальянские рабочие ели, развалясь на кучах вырытой земли. Были, конечно, и


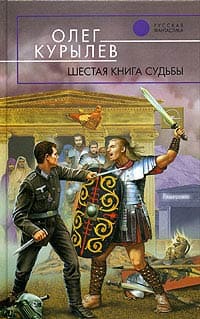

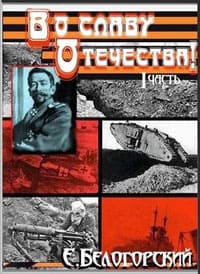
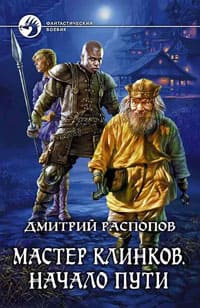
 Каменистый Артем
Каменистый Артем Суворов Виктор
Суворов Виктор Шилова Юлия
Шилова Юлия Громыко Ольга
Громыко Ольга Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс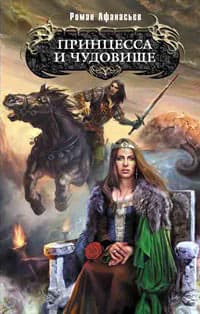 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман