607
Ночью, в Германии, когда расхаживаешь взад и вперед по платформе, всегда
находится кто-нибудь, кто все раз-объяснит. Круглые головки и продолговатые
приходят в соприкосновение в облаке пара, шестерни расходятся и вновь
сцепляются. Звук речи, похоже, усваивается лучше, чем язык вещей, словно речь --
это пища для ума, насущная, насыщающая, аппетитная. Клейкие ее частицы прилипают
к небу и растворяются не сразу, спустя месяцы после поездки, так курильщик,
сделав глоток воды, выпускает через нос струйку дыма. Слово "gut"* -- самое
долгоживущее слово из всех. Кто-то говорит: "Es war gut!"**-- и мое брюхо
довольно урчит, словно заполучило жирного фазана. Бесспорно, нет ничего лучше,
нежели ехать в ночном поезде, когда все пассажиры спят, и извлекать из их
открытых ртов великолепные сочные кусочки невыговоренной речи. Когда человек
спит, в его сознании происходит тьма событий, оно мчится сквозь них, как поезд
сквозь тучу летних мух, затягиваемых в его вихревой поток.
Вдруг я оказываюсь на морском берегу, но память о поезде не оставляет меня.
Воспоминание о нем даже не становится менее четким. Оно просто устремилось на
океанский берег, словно комета.
Все убогое, поддельное, тонкостенное, как картонное. Кони-Айленд, луна-парк
души. Вовсю торгуют павильончики. Полки ломятся от чашек с блюдцами и кукол,
набитых трухой, и будильников, и плевательниц. Над каждым павильончиком по три
воздушных шарика, как символ надувательства. Прогуливаются евреи в макинтошах,
улыбаются японцы, в воздухе стоит запах лука, тянет чадом от жарящихся
гамбургеров. Гомон, гомон и, заглушая все, -- рокот, ровное шипение и мощный
хлопок фейерверка, долгое, без остановки, аденоидное сопение забитой носоглотки
над грязным притоном. Позади улицы картонных фасадов фейерверки вспарывают ночь
сверкающими, пылающими зубами; моллюски валяются на песке и выпускают струйки
озона из анальных отверстий. В океанской ночи "Стипль чез" похож на седую
бороду. Все скользит и: крошится, все искрится, колеблется, качается и шатается.
Где тот теплый летний день, когда я впервые увидел землю, устланную зеленым
ковром, и мужчин, и женщин, движущихся как пантеры? Где нежная журчащая музыка,
поднимающаяся по сочным корням земли, что слышал я? Куда идти мне, если всюду
ямы-ловушки и скалящиеся скелеты, мир, вывернутый наизнанку, так что все потроха
__________
* Хороший (нем.).
** Это было хорошо! (нем.)
608
вывалились наружу? Где преклоню я голову, если крутом нет ничего, только
медведи, макинтоши, пересвист босяков, разбитый штакетник? Неужели мне вечно'так
и шагать по этой бесконечной картонной улице, мимо этих картонных фасадов,
которые можно проткнуть пальцем, можно повалить, дунув на них, можно поджечь,
поднеся спичку? Мир превратился в таинственный лабиринт, воздвигнутый бригадой
плотников в течение ночи. Все -- ложь, фальшь. Картон.
Я иду вдоль раскинувшегося океана. Песок усеян людьми-моллюсками, ждущими, чтобы
кто-то раскрыл их раковины. Их отчаянные мучения незаметны среди рокота волн и
гомона толпы. Отгоревшие фейерверки падают на них, их оглушают вспышки, их топит
прибой. Они лежат за картонным фасадом улицы в ночи цвета оникса, и слушают
шкворчание жарящихся гамбургеров. Гвалт, гомон, треп и шутки, по длинным гладким
желобам катятся шары к маленьким отверстиям, заполненным безделушками: чашками с
блюдцами, плевательницами, цветочными горшками и набитыми трухой куклами.
Лоснящиеся япошки моют мокрой тряпочкой резиновые растения, армяне крошат лук на
микрокосмические частицы, македонцы, у которых руки как черная патока, бросают
лассо. Все мужчины, женщины и дети одеты в макинтоши и у всех аденоиды, насморк
с кашлем, диабет, коклюш, менингит. Все, что стоит, скользит, катится,
кувыркается, вертится, дергается, качается, колеблется и падает, все держится на
гайке с болтом. Властелин души -- гаечный ключ. Верховная картонная власть.
Моллюски уснули, звезды бледнеют. Все, что есть вода, дремлет сейчас в накладном
кармане гиены. Утро встает как стеклянная крыша над миром. Поблескивает гладь:
океан покачивается в безмятежном сне.
Уже не ночь, еще не день. Заря, летящая над легкой рябью на крыльях альбатроса.
Все звуки приглушены, гулки, тусклы, как если б человек все делал под водой. Я
чувствую, как вода убывает, без страха не возвратиться; я слышу, как плещут
волны, не боясь утонуть. Я иду среди обломков рушащегося мира, но на моих ногах
нет синяков от ушибов. Нет предела небу, нет границы между землей и морем. Я
перехожу вброд промоины и устья ручьев, ступая в податливом мягком песке. Я не
слышу запахов, не слышу звуков, не вижу ничего и ничего не чувствую. На спине
или на животе двигайся я, боком, как краб, или по спирали, как птица, ощущение
будет одно -- блаженно-нежное.
От белого мелового дыхания Плимута по земному хребту пробегают мурашки; кончиком
хвоста дракон обвивает осколки континента. Кошмарно-коричневая земля и зеле-
609
новолосые люди, древний образ, возрождающийся в мягкой, молочнй белизне
Последний взмах хвоста в нечеловеческом спокойствии равнодушие к надежде, к
отчаянию, тоске. Коричневая земля и окисная зелень не игра воздуха или неба, не
обман зрения или осязания. Умиротворение и торжественность, нездешнее,
непостижимое спокойствие меловых утесов нейтрализуют яд, гибельное, хриплое
дыхание зла, висящего над землей, как кончик драконьего хвоста. Я чувствую
невидимые когти, что стискивают скалы. Густой, глубинный зеленый цвет земли --
это не цвет травы или надежды, но цвет слизи, тины, неколебимого мужества. Мне
чудятся коричневые капюшоны мучеников, их спутанные волосы, их острые ногти,
прячущиеся в складках грубых одежд, их томление, их опустошенность. Меня
неудержимо влечет к этой земле, которая лежит на краю света, к этой бугристой
суше, вытянутой, как нежащийся на солнце аллигатор. Из-под ее тяжелого бесполого
опухшего века глядит коварный ядовитый моллюск. Разверзающаяся пасть вызывает
видение. Кажется, что море и все, кто в нем утонул, их кости, их надежды, их
воздушные замки стали белой амальгамой, которая есть Англия.
Мой мозг тщетно ищет некое воспоминание, которое старше любого воспоминания,
мифа, высеченного на каменной табличке, спрятанной под горой. В витринах под
эстакадой выставлены пироги и гамбургеры; рельсы вскоре делают поворот и на меня
вновь обрушиваются старые ощущения, старые воспоминания. Все, что связано с
доками и причалами, с пароходными трубами, кранами, поршнями, колесами,
мостиками, бриделями; все детали странствия и голода воспроизводятся с
механической безотказностью. Я дохожу до перекрестка, и реальная улица
раскручивается передо мною, подобно карте, полная навесов и эмблем
винодельческих заводов. От полуденной жары по лощеной поверхности карты бегут
трещины. Улицы выгибаются и щелкают зубами.
Там, где ржавая звезда отмечает границу прошлого, поднимается частокол острых,
треугольных зданий с черными .провалами ртов и обломками зубов. Оттуда несет
йодоформом и эфиром, или формальдегидом и нашатырем, или свежерасплавленным
оловом, или влажными металлическими изложницами. Здания кренятся, их крыши
продавлены и продырявлены. Воздух столь тяжел, столь едок и удушлив, что здания
уже не в силах держаться прямо. Подъезды ушли в землю ниже уровня улицы. В
воздухе какое-то лягушачье кряхтение и квакание. Сырые, ядовитые испарения
окутывают окрестности, как если б фундаменты зданий стояли на болотистой
трясине.
610
Когда я прихожу к отцу, я застаю его стоящим у окна и бреющимся, вернее, не
бреющимся, а правящим бритву. Раньше он всегда был мне поддержкой, но теперь,
когда мне так трудно, он меня не слышит. Теперь я замечаю, какой ржавой бритвой
он пользуется. Прежде по утрам, когда я пил кофе, всегда сверкало его лезвие,
светлая немецкая сталь, ходившая по гладкой тусклой грани бруска, и белела
мыльная пена, как сливки в моем кофе, а на подоконнике рос снежный сугроб,
окутывая его слова фетром. Теперь лезвие потеряло свой блеск, снег превратился в
слякоть; вместо алмазных морозных узоров на стекле жирные потеки, от которых
разит жабами и болотным газом. "Принеси мне червей потолще, -- просит он, -- и
мы уж гольянов-то как-нибудь наловим". Такой вот безнадежный горемыка у меня
отец. Я стискиваю его пустые руки через колченогий стол.
Ночь и страшный холод. Опустив голову, бочком подходит ко мне проститутка и,
взяв за руку, ведет в отель с голубой эмалевой вывеской над дверьми. Наверху, в
комнате я хорошенько рассматриваю ее. Она молода, атлетического сложения и, что
лучше всего, совсем темная. Она не знает, как зовут хотя бы одного короля. Не
говорит даже на родном языке. Всякий раз, когда я обращаюсь к ней, она
присасывается ко мне, словно высасывает горячий жир из мозговой косточки. Она
смазывает себя этим жиром. Все это для того, чтобы не мерзнуть зимой, защититься
от холода слоем жира, как она объясняет мне в своей бесхитростной манере. Когда
весь жир из моих костей высосан, она откидывает покрывало и с поразительной
бойкостью начинает свой полет на трапеции. Комната напоминает гнездо колибри. В
чем мать родила она складывается в .шар, лицо между грудей, ладони просунуты
между ног. Она похожа на зеленую ягоду, из которой того гляди выскочит косточка.
Вдруг я слышу, как она говорит в этой дурацкой американской манере: "Я могу вот
это, а вот то не могу!" После чего демонстрирует, что она может. Может что? Ну,
принимается, прямо как колибри крылышками, трепетать нижними губами. У нее
маленькая поросшая шерстью голова, преданные собачьи глаза. Как у изображения
черта на фреске времен расцвета папства. Подобное несоответствие вовсе
ошарашивает меня. Я сижу под пневматическим молотом: всякий раз, как я смотрю ей
в лицо, я вижу железную щель и в ней человека в железной маске, подмигивающего
мне. От этого паясничанья становится жутко, ибо человек подмигивает слепым
глазом, слепым, источающим слезы, грозящие перерасти в слезопад.
Если бы ее руки и ноги так не переплелись, если б она
611
не была скользкой, свившейся в клубок змеей, задыхавшейся под маской, я б мог
поклясться, что это моя жена Альберта, или если не моя жена Альберта, то другая
жена, хотя думаю, что Альберта. Я был уверен, что всегда узнаю Альбертину
расщелину, но ежели тело завязано узлом, а между ног -- маска, то одну расщелину
не отличишь от другой и над каждой сточной трубой -- решетка, в каждом стручке
-- горошина, за каждой щелью -- человек в железной маске.
Сидя на стуле возле железной кровати -- подтяжки спущены и висят, падающий молот
бьет по черепу, -- я начинаю представлять себе женщин, которых знал. Женщин,
которые от души раздвигали бедра, чтобы врач засунул внутрь резиновый палец и
смазал трещины на их эпиглоттисах. Женщин с такой тонкой перегородкой, что


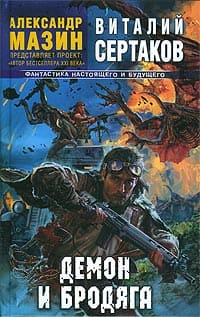



 Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте Никитин Юрий
Никитин Юрий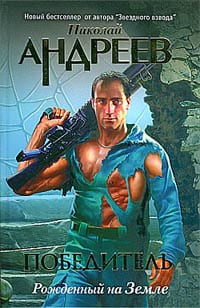 Андреев Николай
Андреев Николай Махров Алексей
Махров Алексей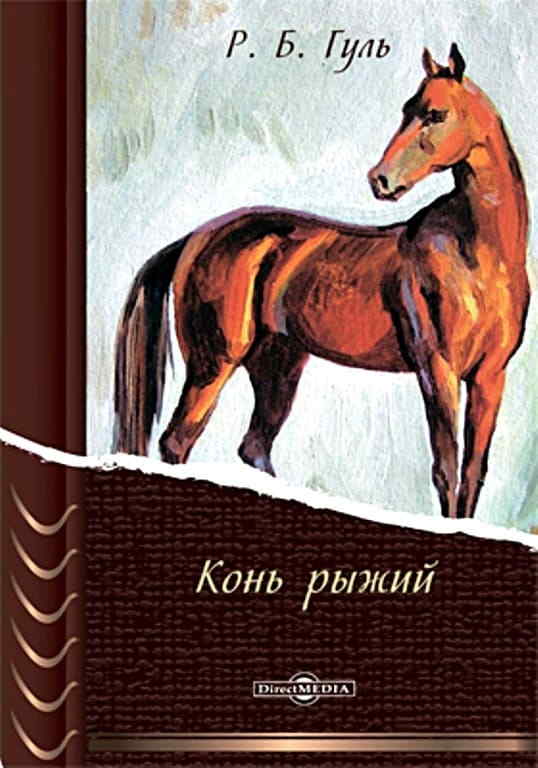 Гуль Роман Борисович
Гуль Роман Борисович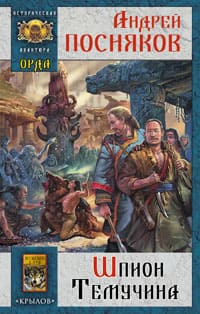 Посняков Андрей
Посняков Андрей