| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ |
|
|
|
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ |
|
|
|
|
Как циркуля игла, дрожа,
Те будет озирать края,
Где кружится моя душа,
Не двигаясь, душа твоя.
И станешь ты вперяться в ночь
Здесь, в центре, начиная вдруг
Крениться, выпрямляясь вновь,
Чем больше или меньше круг.
Но если ты всегда тверда
Там, в центре, то должна вернуть
Меня с моих кругов туда,
Откуда я пустился в путь.
Описывая окружность, циркуль завершает путь путешествующего поэта и путь образа в его стихотворении. По распространенной комментаторской версии, образ циркуля предварен упоминанием о золоте в предшествующей строфе, так как широкоизвестный в ту эпоху алхимический знак золота представляет собой кружок с отмеченным центром. Это важная подсказка, поскольку мы уже могли убедиться в том, что Донн не бросает отрывочные аргументы, но выстраивает их в логическую цепочку.
Важно и то, что эта подсказка [зрительная]. Не забудем, что уже началось продолжавшееся более века увлечение книгами эмблем, издававшимися десятками и сотнями по всей Европе для целей обучения и развлечения. Эмблема, представляющая собой комбинацию рисунка, стихотворения и латинского изречения, делает сложное зримым и понятным, указывает на суть явления и в своей двуязычности служит учебником языка. Эмблема -- наглядное пособие в школе и нечто вроде ребуса или кроссворда в повседневной жизни.
А для нас эмблема -- модель мышления эпохи, барочного мышления, увлеченного сопряжением "далековатых" идей, их выражением средствами разных искусств, их многозначностью... В ней -- стремление ощутить предметное в его вещности и одновременно, афористически обобщая суть, проникнуть за его пределы, угадывая, чту предмет обозначает, чему служит знаком. Можно сказать, что в эмблеме отразился общий кризис семантики, когда знак все более трудно становилось соотнести с означаемым, но тем интереснее становилась игра их соотнесения*(32).
Таков барочный рационализм, направляющий разум и риторику на познание иррационального, выстраивающий стройную логическую конструкцию над бездной устремленного к хаосу бытия.
Барочный, в том числе и метафизический, текст приглашает к интеллектуальной игре и устанавливает для нее правила. Приняв их, мы начинаем угадывать, возможно, порой предполагая что-то и не предусмотренное автором. Так, трудно сказать, все ли эмблематические и латинские версии, предложенные для "Прощания" М. Бауэром и не им одним, верны, но в своем большинстве они вероятны, хотя и в разной мере. Помимо алхимического знака золота, М. Бауэр видит графическое предварение циркуля в том, что все стихотворение начинается дважды повторенной -- в заглавии и в первой строке -- буквой А, которая в ренессансных рисованных алфавитах изображалась как циркуль. Есть еще одно предварение образа циркуля и финального завершения сюжета по окружности -- латинское: М. Бауэр предполагает, что первый метафорический образ в стихотворении -- отлетающего дыхания -- ассоциативно вовлекает ряд латинских слов: spiritus, spirare, spira, -- в которых встречаются дух, дыхание и образ спирали, восходящего кругового движения...
[Движение по кругу] -- возвращающееся движение, значит, не надо печалиться. Доказательство состоялось: концепт циркуля подхватывает и завершает логическое движение мысли. Этим концептом, по мнению столь авторитетного и влиятельного интерпретатора образной многосмысленности, как Уильям Эмпсон, "Донн прежде всего хочет сообщить, что все его рассуждение об истинных влюбленных представлет собой не причудливую условность, каковую он не раз высмеивал в своих более ранних стихах, а что-то достоверное, подсказанное ему опытом"*(33).
И еще, утверждает У. Эмпсон, оспаривая мнение другого авторитета -- Розамунд Тьюв (чья позиция запомнилась прежде всего тем, что она трактовала "метафизическую образность" как нечто принадлежащее всей эпохе, а не одной лишь поэтической школе), концепт по своей природе не может быть сочтен единичным сдвигом словесного значения, катехрезой, а представляет собой аргумент, метафорически развернутый, вовлекающей множество подходящих к случаю ассоциаций.
Иными словами, метафизический концепт -- идеальное воплощение одной из наиболее распространенных сейчас теорий о природе метафоры, названной ее создателем Максом Блэком "теорией взаимодействия". Метафора не просто замещает одно предметное значение другим, как принято повторять вслед Аристотелю, но, по крайней мере в своем полном выражении, сближает смысловые сферы, "системы общепринятых ассоциаций"*(34), позволяя им свободно обмениваться признаками, предполагая их родство.
Мы видели, сколь многое было вовлечено в метафизический концепт Донном: наука, алхимия, ремесло, быт... Объем ассоциативного опыта едва ли может быть воспроизведен в переводе. Утраты неизбежны. Они велики и в ранних переводах Бродского. То, что оказалось невозможно перевести с языка на язык, оказалось легче воспроизвести как принцип на своем языке и в объеме своего ассоциативного опыта. Бродский более, чем в переводах из Донна, метафизичен в собственных текстах.
"Горение"
Какой бы смысл мы ни вкладывали в слова "поэт-метафизик", ввиду этой ассоциации Бродский в глазах многих выглядит совершающим еще один шаг в сторону от классической традиции русской поэзии. А именно в таком движении его нередко подозревают.
Многие критики, включая и тех, кто, кажется, готов оценить талант Бродского, полагают, что по своей природе его талант был очень не-русским. Так, Лев Аннинский утверждает: "Феномен Бродского вообще -- загадка для нашей ментальности, нечто непонятное для нашей традиции. Как поэт он реализовался в русском языке, но он поэт не русский ни по духу, ни по голосоведению. Что-то ветхозаветное, пустынное, тысячелетнее. Длинные гибкие смысловые цепочки вносят в его стихи что-то английское. Он разрушает то пушкинское качество стиха, для нас фундаментальное, когда гармония либо дисгармония созидаются внутри слова, в "ядре слова", в магии звучания слова, в его существовании"*(35).
Аннинский -- критик, умеющий сформулировать и выразить бытующее мнение. Он легко может заблуждаться (с какой стати считать наличие "длинных гибких смысловых цепочек" знаком английскости в поэзии?), но он умеет ясно обозначить свою мысль и сделать ее приемлемой для многих. Так и с его мнением о Бродском, которого часто видят противостоящим пушкинскому направлению в поэзии или возвращающимся к чему-то допушкинскому (библейским и поэтическим архаизмам) и, таким образом, выходящим за пределы "гармонической ясности". Очень часто этот "выход" рассматривается в свете последнего периода биографии Бродского как его переход в англоязычную культуру.
Однако не английскость Бродского уводит его от пушкинской традиции, но тот выбор, который он сделал для себя в пределах самой английской поэзии. Пушкин менее, чем кто-либо другой, может быть изъят из его английских связей. Его поэтическая юность прошла под знаком Байрона; зрелость -- под знаком Шекспира (не упоминая иных важных контактов). Бродский также, по крайней мере однажды, напомнил о Байроне, назвав свою лучшую книгу любовной поэзии, сложившуюся за двадцать лет, "Новые стансы к Августе" (1983).
Можно, конечно, прочесть это название лишь как аналогию прощания, прозвучавшего и в байроновских стихах, обращенных к сводной сестре накануне его пожизненного изгнания из Англии; однако исключительно биографическое прочтение представляется поверхностным. Кажется ли правдоподобным, что Бродский, обратив внимание на сходство жизненной ситуации, может совершенно не обратить внимания на природу поэзии, в особенности когда он искал чего-то безусловно эмблематического, каким подобает быть названию, для сборника своих любовных стихов? Судя по характеру стиха, можно предположить, что он как бы продублировал прощание, навсегда расставаясь с женщиной, которую любил, и с лирическим складом поэзии, который утвердился в России как раз со времени воздействия на нее Байрона и преобладает в ней с тех пор. Несмотря на многие попытки отвратить течение русской лирики от ее романтического истока, русская эмоциональная открытость как в поэзии, так и в жизни остается общеизвестной.
То, что продолжало отстаивать свой романтический характер в национальной традиции, Бродский попытался претворить в [метафизику]. Неважно, когда он мог впервые прочесть статью "Метафизические поэты" и другие эссе Т. С. Элиота, но противопоставление метафизичности как истинно поэтического качества -- романтичности (с ее избытком лиризма, с перехлестывающей через стих эмоцией) как ложному ощущается подспудно присутствующим в собственной поэзии Бродского до того, как он мог прочесть Элиота или Донна.
Пушкин, разочаровавшись в Байроне, обратился к Шекспиру. Бродский обратился к Донну, который для Пушкина и долгое время после него в России оставался неизвестным.
Прочтем текст, который одни числят среди лучших созданий Бродского, от которого другие отшатываются как от богохульного и который в любом случае является одним из наиболее метафизических у поэта.
"Горение" написано в 1981 году, за два года до появления сборника любовной лирики "Новые стансы к Августе", посвященного М. Б. Стихи, включенные в сборник, охватывают двадцать лет. Хронологически "Горение" стоит среди последних стихотворений, завершающих всю книгу. Эмоционально оно одно из самых напряженных, "mixing memory and desire" (смешавших память и страсть, если вспомнить Т. С. Элиота).
По лирическим масштабам это большое стихотворение: 76 строк, разбитых на 19 четверостиший. "Горение" открывается указанием на время года -- зима и время дня -- вечер. Ощущение нарастающего холода и темноты едва мелькнуло, как тотчас растворилось в тепле, восходящем от дров в камине, охваченных пламенем, которое мгновенно поражает зрительным сходством с женской головой в ясный ветреный день:
Зимний вечер. Дрова
охваченные огнем --
как женская голова
ветреным ясным днем.
Как золотится прядь,
Слепотою грозя!
С лица ее не убрать.
И к лучшему, что нельзя.
Не провести пробор,
гребнем не разделить:
может открыться взор,
способный испепелить.
Вспышки огня и памяти сначала перемежаются, затем сливаются воедино и в конце концов становятся совершенно неразличимыми, поглощенные метафорой, внутри которой сердце вместо дров оказывается охваченным пламенем. Огонь из камина воспламеняет воспоминания страстью, спустя годы возвращающейся в своей физической реальности:
Я всматриваюсь в огонь.
На языке огня
раздается "не тронь"
и вспыхивает "меня!"
От этого -- горячо.
Я слышу сквозь хруст в кости
захлебывающееся "еще!"
и бешеное "пусти!"
За первым зрительным впечатлением следует более глубокое проникновение в прошлое, все еще горячее, обжигающее ("Ты та же, какой была..."). Пламя, в первый момент поразившее своим неожиданным сходством с женской головой, растрепанной на ветру, и тем самым запустившее метафору, продолжает подогревать ее изнутри и вырастает в образ женщины, некогда любимой и теперь возвращенной воспоминанием. Метафора прокладывает себе путь каждой деталью. Сначала их все еще поставляет зрение, подобно тому как возник зрительный образ завивки, подсказанный тем, что каминные щипцы ассоциируются с щипцами для завивки, раскаленными добела. Затем аналогия с пламенем проникает во внутренний мир ("нутро") той, чья любовь всегда грозила испепелить сущее. Бродский щедро нанизывает ассоциации, подсказанные образом, вынесенным в название стихотворения, пока пляска огня в камине полностью не замещается танцующей фигурой, яркой, безудержной, разрушительной:
Впивающееся в нутро,
взвивающееся вовне,
наряженное пестро,
мы снова наедине!
Это -- твой жар, твой пыл!
Не отпирайся! Я
твой почерк не позабыл,
обугленные края.
"Обугленные края" -- что это: сожженное письмо как еще один знак разлуки и памяти? Или текст всей жизни и всего творчества, опаленный страстью?
На русском языке написано очень немного стихотворений, способных сравниться с "Горением" по чувственной откровенности. В последние годы весь объем русской поэзии был тщательно прочесан составителями антологий прежде "запретных" стихотворений с целью доказать, что секс никогда не был чужд национальному складу души. Тем не менее стихотворения, которые лучше всего могли бы послужить поставленной цели, зияли своим отсутствием в подобных сборниках. Никто из составителей не обращал внимания на батюшковскую "Вакханку" или "Леду" Баратынского. Такого рода забывчивость объясняется представлением об эротике, прочто утвердившимся в русской культуре и сто лет назад точно описанным профессором Венгеровым в словарной статье об Иване Баркове, прославившемся своими непотребными стихами в XVIII веке. В то время как истинный эротизм лишь слегка приподымает завесу, "Барков... с первых слов вываливал весь немногочисленный арсенал неприличных выражений, и, конечно, дальше ему остается только повторяться"*(36).
Школьное словоблудие все еще слишком легко принимается за русскую эротику, в то время как поэтическая чувственность, если только она соблюдает приличие в выражениях, остается незамеченной, не включенной в антологии. Пушкин в этого рода сборниках скорее всего будет представлен поэмой "Тень Баркова", быть может, ирои-комической "Гавриилиадой", но едва ли такими стихами, как "Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...".
В классической русской традиции эротическая тема представлялась предметом, который требует не лексического снижения, а скорее возвышения за счет параллелей из мифологии, античной или христианской. Чувственность тем самым приобретала статус культурной ценности, как это происходит и в тексте Бродского. Он прибегает к образности обеих мифологических систем, представляя свою возлюбленную менадой, чья дионисийская мистерия разыгрывается в христианских декорациях:
Пылай, полыхай, греши,
захлебывайся собой.
Как менада пляши
с закушенною губой.
Вой, трепещи, тряси
вволю плечом худым.
Тот, кто вверху еси,
да глотает твой дым!
Вот они строчки, которые были названы -- Ю. Кублановским -- "самыми страшными в русской поэзии" и по поводу которых у Бродского было специальное объяснение с А. Найманом:
"Видите ли, был такой эпизод, когда меня очень хотели поссорить с Бродским именно на том основании, что я якобы сказал, что он безбожник. Я этого, разумеется, не говорил и не думал. И по этому поводу у нас было даже письменное объяснение. Дело в том, что, конечно, эти две строчки никуда не годные во всех смыслах. Они, кроме всего прочего, еще и безвкусные. Но это стихотворение характеризуется не строчками, а силой страсти. Ну, я же не воспитатель Бродского, который говорит: "От этого вам надо освобождаться". Он это написал, и я говорю о стихотворении целиком. Хотя, конечно, это строчки меня оскорбляющие, но я повторяю, что я человек, которому оскорбление не закрывает глаза"*(37).
Может быть, даже поразительнее этих оценок Ю. Кублановского и А. Наймана тот факт, что во всем сборнике интервью современных поэтов о Бродском других оценок, других упоминаний "Горения" просто нет. Никаких! Это ли не знак опасности, неприемлемости текста, на силу которого даже те, кто его не приемлет по мотивам оскорбленности своего религиозного чувства, "не закрывают глаза"? Это ли не знак того, что текст странен вплоть до исключительности в русской культуре и в связи со свойственным ей представлением о дозволенном?*(38) В традиции "метафизической" барочной лирики он, во всяком случае, не странен и не одинок.
В русской традиции подобная рефлексия страсти кажется невозможной, хотя сам факт ее существования (при всей ее нравственной опасности) "является ключевым в христианской поэзии. Ведь в России никогда не было эротическо-метафизических текстов, как у Святой Терезы, допустим. Мы никогда не знали этой силы любви, которая сама себя бы анализировала. Вот это то, что сейчас, мне кажется, для нас было бы спасительно"*(39).
Я не уверен, что автор этих слов -- в том же сборнике интервью -- Виктор Кривулин счел бы сакраментальные строки из "Горения" "спасительными", как и все стихотворение, но упоминание им Святой Терезы, эротической метафизичности заставляет думать, что они ему не должны показаться богохульными, "страшными" и он вполне понимает традицию и смысл их духовности.
В христианском обрамлении языческий танец травестирует жертвоприношение: пламя земной любви, поглощающее и душу и тело, удушливым дымом поднимается к небесам вместо уместных в этом случае воскурений. Метафора горения начинает граничить со святотатством, принимая форму священной пародии, неизбежную там, где страсть приравнивается Страсти. В одной из предшествующих строф это было проговорено почти что открытым текстом, без метафорической иносказательности:
Как ни скрывай черты,
но предаст тебя суть,
ибо никто, как ты,
не умел захлестнуть,
выдохнуться, воспрясть,
метнуться наперерез.
Назарею б та страсть,
воистину бы воскрес!
Любовный сюжет развертывается в вертикальном пространстве между Небом и Землей, подобно Божественной комедии. Ничто не спасется от разрушительного всепоглощающего пламени. Шелка -- здания -- небеса -- икры следуют друг за другом в головокружительном хороводе огня, мелькая мгновенными вспышками. Одного взгляда, брошенного в камин, было достаточно, чтобы запустить механизм воображения; и теперь, когда стихотворение близится к своему финалу, уже нет грани, отделяющей мир внутри от внешнего мира. Она, возвращенная памятью, не признает границ и барьеров для своей любви, как она никогда их не признавала. В полном согласии с ее волей страстное горение охватывает все мироздание; ничто не способно его остановить, пока оно само не изойдет в догорающих углях:
Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
после тебя -- зола,
тусклые уголья,
холод, рассвет, снежок,
пляска замерзших розг.
И как сплошной ожог --
не удержавший мозг.
Это финал, который приводит нас очень близко к своему началу. Метафорическое видение исчерпано; огонь потух или возвращен туда, где он живет всегда -- в сознании, обожженном воспоминаниями: "И как сплошной ожог -- /не удержавший мозг". У стихотворения кольцевая композиция, или, если воспользоваться более подходящим к случаю бахтинским словом, -- [архитектоника]. Круговое движение глубоко укоренено в самой семантической структуре стихотворения.
При свете нового дня мир выглядит обыденным и только для посвященных -- чреватым драматическим действом. [Обыденная] и [драматическая] -- это две из числа черт, отличительных для метафизической ситуации, которые были перечислены Хелен Гарднер в ее знаменитом эссе. Текст Бродского легко вписывается в систему, выстроенную Гарднер, таким образом обнаруживая свою принадлежность метафизической традиции и уникальность в русской лирической поэзии.
Метафизическая ситуация обыденна в сравнении с тем изощренным разумом, тем метафизическим остроумием, которое позволяет устанавливать связи между понятиями, далекими по своей ценности и по своей природе, а следовательно, охватывать огромное смысловое пространство. Первоначальное ощущение сходства возникает совершенно случайно; подсказанное беглым впечатлением, оно принадлежит "здесь" и "сейчас", но, продуманно развернутое, оно оказывается подходящим средством для долгого путешествия в сферу бесконечного. Это как раз и есть случай со стихотворением Бродского, в пламени чьего камина погибла вселенная.
Метафизическое стихотворение представляет собой доказательство, выполненное по законам метафорической логики. Его убедительность зависит от элегантной непредсказуемости мысли, порожденной сознанием, которое, в соответствии со знаменитой формулой Т. С. Элиота, позволяет переживать "thought as immediately as the odour of a rose". Спонтанность стихотворения превращает его в непосредственное речевое высказывание, чья энергия взрывает правильную ритмическую структуру и ведет строку поверх метрических пауз. Именно такое звучание стиха Бродский впервые оценил у Цветаевой, точно так же, как некоторые иные свои свойства он наследовал у других русских поэтов. Совокупный же метафизический эффект был его собственным, не имеющим прецедента в русской поэзии.
Державинская ода, в особенности духовная ода "Бог", быть может, самая близкая параллель метафизическому стилю Бродского; в то же время она не может быть достаточно близкой ввиду двух столетий, разделяющих этих поэтов. Бродский чувствовал и родство и различие, когда в радиоинтервью по случаю 350-летней годовщины со дня смерти Донна он попытался установить ближайший русский эквивалент его стиху: "...стилистически это такая комбинация Ломоносова, Державина, и я бы еще добавил Григория Сковороды... С той лишь разницей, что Донн был более крупным поэтом, боюсь, чем все трое вместе взятые"*(40).
Сделанное русскими поэтами XVIII века подчас поражает почти буквальным совпадением с поэзией европейского барокко, большей частью для них неизвестной. Ломоносов эхом вторит Бальтасару Грасиану и другим теоретикам, когда целью для поэзии он устанавливает связывать "далековатые" идеи, хотя громогласный стиль его собственных од никогда в полной мере не допустил бы вторжения остроумно-причудливых кончетти и не подчинился бы метафорической логике. Пространство, охватываемое ломоносовскими образами, все-таки было рассечено жесткими границами стилистической иерархии, которые он сам же устанавливал в теории и о которых не вовсе забывал на практике. Державин был достаточно смел, чтобы пренебречь предписаниями нормативной поэтики и собственной персоной явиться в монументальных жанрах высокой поэзии. Обращаясь к Богу, он не пытался смягчить личный акцент или исключить ситуацию собственного бытия. Он оставляет впечатление человека, говорящего сейчас и обращенного к вечности, желающего, чтобы и читатель в полной мере ощутил его присутствие. И все-таки Державин чувствует, что его личное бытие и его внутренний мотив для обращения к Богу лишь намечен в стихе, а потому он не забывает дополнить в прозаическом комментарии то, что поэт-метафизик непременно сохранил бы в самом стихотворном тексте.
"С точки зрения языка" -- английский вариант названия интервью, данного Бродским по случаю годовщины смерти Донна в 1981 году и, значит, одновременного "Горению"; с точки зрения языка русский эквивалент Донну невозможно составить из каких-либо индивидуальных поэтических усилий без учета опыта ХХ столетия. Ломоносов и Державин указывают в направлении именно метафизической поэзии, но в их стиле еще нет необходимой личной свободы. Она придет много позже -- с Цветаевой и ее современниками. Державин и Цветаева -- вот, пожалуй, сочетание крайностей, необходимое для русского поэта-метафизика. Сочетание, которое показалось бы фантастически невозможным... но лишь до явления Бродского.
---
Взгляд, брошенный зимним вечером на горящие поленья, породил метафору, которая вспыхнула всемирным пожаром. "Горение" -- классический случай развернутой реализованной метафоры, так часто встречающейся в "метафизической поэзии". И пожалуй, не так часто у самого Бродского. "Горение", по полноте воплощения приема, -- случай достаточно исключительный.
Степень метафорического развертывания может варьироваться от одной строфы до пределов всего стихотворения, так же как поэт может рассчитывать на одно подробное доказательство или свободно скользить от одного к другому. Однако основная метафизическая функция остается неизменной: подкрепить и обновить великую аналогию между миром внутри и миром вовне, нанизывая впечатления, воспринятые зрением, сердцем, умом, и таким образом связать индивидуальное со всеобщим, обыденное с вечным. Их отношения всегда драматичны, всегда "далековаты". Бродский обладал очень личным чувством [далековатости], порожденной обстоятельствами его судьбы и основополагающей для его метафизики.
В томе Сочинений Иосифа Бродского под стихотворением "Горение" стоит дата -- 1981, которой не было в "Новых стансах к Августе". Даты под другими стихами указывают на год, иногда на месяц или даже день. Большинство стихотворений в первой части сборника датированы, во второй -- лишь одна хронологическая помета под стихотворением "Ты гитарообразная вещь со спутанною паутиной..." -- 22 июля 1978. Принцип датировки меняется после 1972 года, года, в который Бродский был принужден уехать, чтобы никогда более не увидеть России.
За два или три года до "Горения" Бродский посвятил тому же адресату стихотворение "Ниоткуда с любовью", завершавшееся такими строчками:
...я взбиваю подушку мычащим "ты"
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.
"Ниоткуда..." -- эта топонимическая отсылка в действительности стирает как время, так и пространство, оставляя говорящего с единственной реальностью -- [отсутствия]. Неологизмы в первой строке делают время абсурдным, доказывая это предположение: "Ниоткуда с любовью надцатого мартобря..." Прощание -- обычная любовная ситуация в "метафизической поэзии", часто превращающей отсутствие в предмет рефлексии или определяющей любовь, как у считающегося последним английским поэтом-метафизиком XVII века Эндрю Марвела в "Определении любви": "...соединение душ и противостояние звезд" ("...the Conjunction of the Mind, /And Opposition of the Stars"). Первая часть этой формулы опущена Бродским, точнее, замещена "безумным зеркалом" воспоминаний.
В "Ниоткуда с любовью" ситуация лишь намечена; в "Горении" она метафорически воспроизведена: вспышка огня отражена и трансформирована "безумным зеркалом". Первое впечатление -- зрительное, но за ним вступают остальные чувства, превращая стихотворение в дыхательную стенограмму страсти, не имеющую параллели ни в русской поэзии, ни, пожалуй, у самого Бродского. "Горение" -- одна из последних его лирических попыток уничтожить разделяющую дистанцию метафорой; попытка, завершающаяся признанием в том, насколько невыносимо мучительным было это усилие. Повторить его, вероятно, было просто физически невыносимо для больного сердца поэта.
Как бы то ни было, цикл метафизической любви был исчерпан Бродским в "Новых стансах к Августе", оставлен для метафизики пространства в следующей книге -- "Урания" (1987). Это был путь, по которому многие читатели отказались последовать за поэтом.
Осталось, наверное, сделать лишь одно -- закончить напрашивающимся напоминанием. Метафизический опыт, приобретенный Бродским, стал обновленным опытом русского стиха. Но в какой мере подготовленным самой русской поэзией? Мы пока что, естественно, склонны ощутить и пережить новизну этого опыта. Однако Бродский наряду с Донном в числе поэтов прошлого, наиболее для него важных и ему близких, называл Баратынского. Баратынский и Тютчев (не входивший в число тех, кого Бродский считал "своим") уже не раз были поименованы "русскими метафизиками". Как о таковых о них написана книга С. Прэтт*(41).
Возникнув на материале русской поэзии, этот термин -- "метафизика" -- начнет (уже начал) путешествие по ней. Вопрос о том, насколько он продуктивен, будет зависеть от того, способен ли он, по английской /европейской аналогии, выявить отсутствие или, напротив, наличие чего-то такого, о чем ранее мы не задумывались. Ясно одно: механическое перенесение его в наш поэтический опыт, с тем чтобы обнаружить русского Донна, -- анахронизм мышления XVIII века, когда мы только начали самоопределяться относительно европейской культуры и в ходу были формулы: "русский Расин", "он наш Малерб"...
Если искать русский аналог поэта-метафизика в прошлом, то не именной -- русский Донн, а задавая себе вопрос: можно ли в каком-нибудь смысле говорить о русской "метафизической поэзии", нужно ли это делать и почему европейская поэзия, принадлежащая этой традиции, так долго не задевала русского сознания?
С попытки ответа я начал эту статью. Но, разумеется, в свете нового опыта Донна -- Бродского нам еще предстоит обернуться назад и увидеть, чту его предваряет в русской поэзии, чту ему противится.
* 1. На эту тему написано несколько англоязычных диссертаций. Как поэт-метафизик Бродский был рассмотрен Дэвидом Бетеа в третьей главе его книги: {D. Bethea}, Joseph Brodsky and the Creation of Eхile, New Jersey, 1994. Несколько раз на эту тему высказывался Вяч. Вс. Иванов. Наиболее подробно в статье: {Вяч. Вс. Иванов}, Бродский и метафизическая поэзия. -- "Звезда", 1997, N 1.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [ 258 ] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
|
|


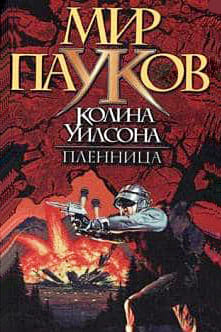



 Круз Андрей
Круз Андрей Никитин Юрий
Никитин Юрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей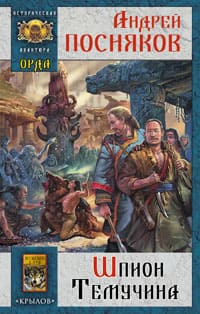 Посняков Андрей
Посняков Андрей