Тысяча девятьсот семьдесят седьмой – три года назад, выходит, это было – вроде как обещал выпустить меня на свободу. Я тогда себя чувствовал так, словно на помойке очутился. Таскал комбинезон линючего зеленоватого цвета, роба у нас была такая. Одеяло, две простыни, подушку вместе с робой этой верну правительству, все у меня на коленях горкой сложено. А поверх горки руки сцепил старые, все в пятнышках. Сижу, тупо стену разглядываю, а камера моя на третьем этаже, в тюремном бараке, который на задах авиабазы Финлеттер, тридцать пять миль от Атланты, штат Джорджия, – Федеральная исправительная колония обычного режима для совершеннолетних, вот как это место называется. Жду конвоира, который меня в административный корпус отведет, а там бумагу выдадут об освобождении и костюмчик мой цивильный вернут. Как выйду, никто за воротами встречать не будет. В целом мире ни души не найдется, чтобы приголубила меня да за все простила, и не покормит никто бесплатно, не приютит на денек-другой.
Заглянули бы ко мне в глазок, увидели бы: примерно раз в пять минут я какие-то совсем непонятные движения произвожу. Выражение-то все то же самое, тупое выражение, но руки вдруг от бельишка сложенного вверх и – хлоп! хлоп! хлоп! Объясню потом, с чего это я и зачем.
Девять утра было, двадцать первое апреля. Конвоир уж час назад явиться бы должен. С ближайшей полосы взмыл истребитель, израсходовав энергию, какой сто квартир тысячу лет отапливать бы хватило, небо в клочья разорвал. А я хоть бы шевельнулся. Кто на авиабазе Финлеттер давно служит или успел посидеть в этом бараке, к таким штукам привык, не замечает. Каждый день одно и то же.
Почти всех заключенных – тут по ерундовым делам сидят, сплошь чистая публика, никого не резали, так, малость провинились – с утра увозили на красных школьных автобусах, работенка для них всякая на базе имеется. А в бараке оставляли только тех, кому доверено убирать помещение, подмести, окна вымыть. Ну, еще такие есть, кто от работы освобожден, не могут они физическим трудом заниматься, больные, значит, сердце пошаливает, а еще чаще – спина болит. Будь день как день, меня бы в прачечную при госпитале для летчиков погнали, отжимным катком орудовать. Здоровье у меня, они так считают, на зависть.
Вы думаете, раз я в Гарварде учился, ко мне, как сел, по-особенному отнеслись, с уважением? А вот и нет, чихать им было – Гарвард, не Гарвард. Я человек семь гарвардских знаю, кого встречал, про других слышал. Кстати, только меня выпустили, койку мою занял Верджил Грейтхаус, бывший министр здравоохранения, просвещения и социальных пособий, он тоже из гарвардцев. По части образования я среди тех, кого в Финлеттер упекли, стоял довольно низко, подумаешь, всего-то диплом университетский. Даже без отличия. А у нас человек двадцать набралось бы, которые с отличием кончили, да с десяток врачей патентованных, если не поболе, и дантистов не меньше, и один ветеринар, и еще доктор богословия был, и доктор экономики, и доктор философии или там химии, не помню, а уж юристов, у которых лицензию отобрали, – пруд пруди. Столько их там сидело, что мы, когда новенькие появлялись, даже предупреждали друг друга: «Язык-то с ним не распускай, пока насчет специальности не выяснил. Который в школе права не учился, точно говорю, из администрации подосланный».
Дипломчик мой жалкий – по гуманитарным дисциплинам: история, экономика. Я, когда в Гарвард поступил, надумал государственным служащим сделаться, из тех, которые на жалованье, а не на выборной должности. Я так рассуждал: раз у нас демократия, значит, выше нет призвания, чем всю жизнь проработать на правительство. Не угадаешь ведь, что за контора тебя наймет, может, Госдепартамент, или там Бюро по делам индейцев, или еще какая, вот я и решил образование получить такое, чтобы везде пригодиться мог. Потому и подался на гуманитарное отделение.
Талдычу вот: я надумал, я рассуждал – а по правде-то, мне тогда все в диковинку было, хорошо еще, думал за меня и рассуждал человек намного старше годами, а я только под его рассуждения подстраивался. Звали этого человека Александр Гамильтон Маккоун, миллионер из Кливленда, в тысяча восемьсот девяносто четвертом Гарвард кончил. Был он сын Дэниела Маккоуна, сильно заикался и общества избегал. А Дэниел Маккоун из шотландцев родом, инженер он, по металлам специалист, – талантливый человек, но грубый, и принадлежала ему им же основанная компания «Кайахога. Сталь и мосты», крупнейший он был промышленник-работодатель в Кливленде, когда я родился. Нет, подумать только, как давно это было! Я ведь родился в тысяча девятьсот тринадцатом. Усомнятся ли нынешние молодые, если я, глазом не моргнув, сообщу им, что в те времена неба над штатом Огайо видно не было, когда пролетали стаи ухающих птеродактилей, а бронтозавры весом в сорок тонн нежились да посапывали в тихих заводях речки Кайахога? И не подумают усомниться.
Александру Гамильтону Маккоуну было сорок один год, когда я родился в его особняке на авеню Евклида. Его жена Элис, в девичестве Рокфеллер, была даже богаче, чем он сам, и время большей частью проводила, скитаясь по Европе в обществе единственного их ребенка, девочки по имени Клара. Ясное дело, и мать, и дочку смущало, что мистер Маккоун так жутко заикается, а еще больше – что он ничего от жизни не хочет, только сидеть у себя на диване да книжки весь день читать, – вот они и старались домой как можно реже заглядывать. А развод в ту пору был дело немыслимое.
Клара, ах, Клара, жива ли ты еще? Как же она меня ненавидела! Были еще другие, которые меня ненавидели. Были и сейчас есть.
Такова жизнь.
А до меня-то мистеру Маккоуну что за дело было, хоть я и родился в его особняке, где царили тишина и несчастье? Мать моя, Анна Кайрис, уроженка Литвы, которая в России, служила у него кухаркой. А мой отец, Станислав Станкевич его звали, уроженец Польши, которая в России, состоял при нем шофером и телохранителем. Оба они мистера Маккоуна по-настоящему любили.
Он для них, и для меня тоже, на втором этаже своего каретного сарая устроил очень миленькую квартирку. И когда я подрос, стал я для него партнером по разным играм, в которые дома играют. Он меня научил в очко играть, в ведьму, шашки, домино – и в шахматы. Скоро только в шахматы мы с ним и играли – ни во что больше. Он играл не очень-то. Почти все партии за мной оставались – может, оттого, что он пил потихоньку. Похоже, выиграть он особо и не старался, я по крайней мере так думаю. Короче, совсем я еще был мал, а он уже родителям моим да и мне самому сообщает, что я, мол, гений – хотя куда там! – и что он меня в Гарвард пошлет. Тысячу раз, не меньше, он маме с папой повторял все эти годы: «Вот увидите, сын у вас настоящим гарвардским джентльменом будет».
Вот затем-то и заставил он нас, когда мне было десять лет, переменить фамилию: из Станкевичей мы Старбеками сделались. В Гарварде у меня все еще лучше получится, говорил, если фамилию взять на английский лад. И так вот вышло, что зовусь я Уолтер Ф. Старбек.
У него-то самого в Гарварде дела шли неважно, он еле до окончания дотянул. К тому же товарищи его презирали, и не только из-за этого заикания его, а за то, что был он непристойно богатенький иммигрантский сынок. В общем, ему бы Гарвард этот ненавидеть, все у него основания были, только с годами, вижу, такие он сантименты развел, так романтически про Гарвард вспоминает, ну поклоняется, да и только: когда я в школе учился, он уж до того дошел, что почитал гарвардских профессоров первыми мудрецами, каких знала история. Америка в рай бы превратилась, надо только, чтобы гарвардские выпускники заняли все главные посты в правительстве.
И получилось так, что к тому времени, когда я при Франклине Делано Рузвельте начал работать в Министерстве сельского хозяйства, оценившем мои таланты, все больше и больше таких постов действительно занимали питомцы Гарварда. Мне тогда казалось: прекрасно, что они. А теперь немного даже смешным кажется. Ведь даже в тюрьме, я уже говорил, к гарвардцам относятся, как ко всем прочим.
Пока я был студентом, случалось мне тешиться туманными надеждами: вот кончу университет, и выяснится, что я получше других умею растолковывать разные важные материи тем, кто слабовато соображает. Ничего из этих надежд не вышло, увы.
Стало быть, семьдесят седьмой, сижу я у себя в камере, жду, когда конвоир за мною явится. Мне-то без разницы, что он уж на целый час опаздывает. Спешить мне ну совершенно некуда, потому как совершенно некуда пойти, когда выпустят. Конвоира того Клайд Картер звали. Он был одним из немногих, с кем я подружился, пока сидел. Сблизило нас главным образом вот что: есть такая фабрика дипломов в Чикаго, заочное обучение, и мы с Клайдом на один и тот же курс записались, барменами решили сделаться при помощи этого Иллинойсского института инструкторов, подразделение корпорации РАМДЖЕК. В один и тот же день, одной почтой то есть, дипломы свои получили, что нам присвоена степень доктора миксерологии. Правда, Клайд к этому времени обойти меня успел, он еще курс по кондиционерам осваивает. Клайд – он троюродным братом президенту Соединенных Штатов приходится, Джимми Картеру. Хоть на пять лет моложе он, а все равно ну прямо копия президентская – и похож как две капли воды, и держится так же. Тоже обходительный такой, приятный, и улыбка такая же, все зубы видны.
Вот отчего руки-то я от барахлишка своего вверх и – хлоп! хлоп! хлоп!
Тут еще один истребитель сорвался с ближайшей полосы и небо в клочья разодрал. «Ладно, – думаю, – зато я курить бросил!» Правду говорю, бросил. Нет, подумать только! Я же по четыре пачки «Пэлл-Мэлл» без фильтра за день высаживал, а теперь все, никакой я не раб Его Величества Никотина. Вот сейчас кое-что напомнит мне, как я одну за другой смолил, ведь небось уж вытащили из конторки костюмчик мой серый в полоску, троечку эту от «Братьев Брукс», а на ней всюду дыры да пятна табачные. Помнится, дырища с четвертак величиной прямо на ширинке. Есть снимок газетный, где меня после приговора увозят, на заднем сиденье я в седане полицейском. Сколько всего понаписали: глядите, дескать, от стыда не знает куда деться, сквозь землю провалиться готов, ужас его скрутил, стыдно людям в глаза посмотреть. А на самом деле у меня как раз штаны загорелись, вот она история-то какая.
Подумалось мне о Сакко и Ванцетти. Я, когда молодой был, верил: их страдания ну просто мир встрепенуться заставят, всеми овладеет неодолимая, маниакальная жажда справедливости, чтобы простой человек мог правды добиться. Теперь кому про них ведомо, кому не все равно?
Да никому.
Я вспомнил Бойню на Кайахоге, самое кровавое столкновение забастовщиков и предпринимателей за всю историю американского рабочего движения. Она в Кливленде происходила, эта Бойня, прямо перед проходной завода компании «Кайахога. Сталь и мосты», и было это утром на Рождество в тысяча восемьсот девяносто четвертом году. Задолго до того, как мне родиться. Родители мои тогда еще детьми были и оставались у себя в Российской империи. А человек, который послал меня в Гарвард, Александр Гамильтон Маккоун, вместе с отцом и с Джоном, братом своим старшим, эту Бойню своими глазами видел – они на башне находились: была там, на заводе, башня такая с часами. И вот тогда он не просто заикаться начал, он с тех пор просто мычит да мекает, ни слова не разобрать, хоть бы вовсе его не волновало, про что идет разговор.
Кстати, компания «Кайахога. Сталь и мосты» давно уже одним историкам рабочего движения известна, а так про нее никто и не помнит. После второй мировой войны ее трест «Янгстаунсталь» к себе присоединил, а теперь сама «Янгстаунсталь» сделалась подразделением корпорации РАМДЖЕК.
Бог с нею.
Да, так, значит, руки мои старые от узелка оторвались, вверх и – хлоп! хлоп! хлоп! Тут вот какое дело, как ни глупо вам покажется: песенка есть одна непристойная – никогда она мне не нравилась, да и не вспоминал я ее уж лет тридцать, – так там под конец три раза в ладоши хлопнуть нужно. Понимаете, я старался ни о чем не думать, ну вообще ни о чем, потому как в прошлом все было так погано, а будущее и представить себе страшно. До того много врагов у меня всюду, не уверен, что хоть барменом удастся где пристроиться. Похоже, думаю, так вот мне и суждено до лохмотьев обноситься да грязью зарасти, денег-то ни единого шанса нет подзаработать. И кончится тем, рассуждал я, что по каким-нибудь придется ошиваться заплеванным кабакам да сивухой накачиваться, чтоб не замерзнуть, хотя мне ведь никогда пить не нравилось.
А всего хуже, думаю, если я вдруг где-нибудь в Бауэри
прямо на тротуаре засну, и наткнутся на меня, спящего, подростки эти – там всякой шпаны полно, а грязные старики очень их раздражают, – ну, из канистры и плеснут. Вымажут всего бензином, а потом разбудят: вставай, дедушка. А уж самое-то жуткое, думаю, как глаза от пламени лопаться будут.
Теперь понятно, почему я старался ни о чем не думать?
Только мне плохо это удавалось – так, отвлечешься на минутку, и все. Сижу себе на койке, и еще хорошо, если хоть малость удается успокоиться, про что-нибудь такое поразмышлять, что мне не страшно, – про дело Сакко и Ванцетти, допустим, или про Бойню на Кайахоге, про то, как мы со стариком Александром Гамильтоном Маккоуном в шахматы играли, и прочее такое.
Если и удавалось так сделать, чтобы совсем была пустая голова, то ненадолго – всего-то секунд на десять, а потом песня эта в башку лезет, какой-то незнакомый голос орет во всю мочь, каждое словечко слышно, а я – хлоп! хлоп! хлоп! Слова, между прочим, жутко грубыми мне показались, когда я эту песню первый раз услышал на вечеринке в Гарварде – ребята наши с первого курса ее устроили, ох, и надрались же мы тогда! При дамах такое не больно-то запоешь. Думаю, никто из дам песню эту отродясь не слышал, хоть нравы уже довольно свободные были. У сочинившего текст намерения ясно какие были: пусть, мол, ребята попоют от души, пусть загрубеют как следует, чтобы уж больше ни в жизнь рассуждениям этим не поверить, которым мы верили всем сердцем, – что женщина существо духовное, изысканное, высокое, не чета нам, мужланам.
А я и сейчас так про женщин думаю. Смешно, правда? За всю жизнь я только четырех женщин любил: мать свою, да покойную жену, и еще женщину, которая когда-то моей невестой была, и еще одну. Расскажу потом про всех них. Пока же знайте: они, все четыре, по-моему, в смысле морали стояли куда выше, чем я, и выдержки у них больше было, а уж насчет понимания тайн жизни – не мне с ними тягаться.
Ладно, чего уж там, узнаете сейчас слова мерзкой этой песенки. Все во мне противится, небось до меня и в голову никому такое не пришло – на бумагу их переносить, хотя, занимая последнее время соответствующую правительственную должность, я-то, собственно, и нес ответственность за то, что были напечатаны кое-какие книжки, где женщин осыпают немыслимыми поношениями. Пелась эта песенка, кстати, на старый, всем знакомый мотивчик, мне она известна под названием «Руби! Ах, Руби!» Но, конечно, у нее и другие названия есть.
Прошу вас, вы не забывайте, что слова эти не какие-нибудь там работяги заматерелые распевали, а студенты-первокурсники, дети в общем-то, да что поделать, Депрессия никак не кончалась, и вторая мировая война близко была, а главное, очень уж этим студентикам досаждала собственная невинность, вот из-за всего этого решительно им стало наплевать, чего от них тогдашние женщины ожидают, чего требуют. Тогдашние женщины ждали и требовали, чтобы студентики, когда окончат курс, хорошие деньги стали зарабатывать, а как их заработаешь, если экономика совсем разваливается. И еще женщины ждали и требовали, чтобы студентики проявили себя храбрыми солдатами, а очень даже было похоже, что на войне их просто в клочья разорвет шрапнелью да пулями, вот и все дела. Кому же наперед известно, как он сумеет держаться под шрапнелью и пулями? Да плюс огнеметы там и газы отравляющие. Грохот жуткий, взрывы. Стоял вот рядом с тобой приятель, бац! – и голову ему оторвало, из шеи кровь фонтаном хлещет.
И еще женщины, становясь этим студентикам женами, ждали, чтобы те даже в брачную ночь оказались любовниками хоть куда, нежными, умелыми, грубоватыми, когда требуется, а когда надо – само преклонение, голову чтобы терять умели, потому как такое тоже возбуждает, и чтобы про органы размножения знали абсолютно все, словно вчера из Гарвардской медицинской школы.
Вспоминаю споры, возбужденные статьей, которая как раз тогда появилась в одном вызывающем журнальчике. Там подсчитывалось, сколько раз за неделю американские мужчины в постели делом занимаются, – по разным профессиональным категориям подсчеты велись. И оказалось, что тут никому не угнаться за пожарными, те по десять раз еженедельно. А хуже всех университетские преподаватели, эти хорошо если раз в месяц раскачаются. Посмотрел статейку один мой однокурсник – его, беднягу, потом на второй мировой войне ухлопали, – покачал грустно головой и говорит: «Черт, да я бы все отдал, чтоб поскорей преподавателем стать».
Короче говоря, песенка та грубоватая, возможно, всего-то и придумана была, чтобы воздать должное женской силе и приглушить вызываемые ею страхи. Ну, вроде тех песенок, где львов высмеивают, – их распевают охотники перед тем, как идти в джунгли.
Вот эта песенка, слушайте:
Просеивает Салли
Золу перед крылечком,
И ногу отставляет,
И – ой! ой! ой! – пердит.
И лопнули трусы на ней,
А сито изорвалось,
А жопа так и прыгает –
И тут поющие выбрасывают руки вверх – хлоп! хлоп! хлоп!
2
Официально моя должность в Белом доме при Никсоне – эту должность я занимал, когда меня арестовали за присвоение государственного имущества, лжесвидетельство под присягой и противодействие правосудию, – называлась так: специальный помощник президента по делам молодежи. Оклад был тридцать шесть тысяч долларов в год. Кабинет мне предоставили, хотя и без секретарши, и находился он в здании, занимаемом органами исполнительной власти, на цокольном этаже – потом выяснилось, что прямо надо мной была комната, где и разрабатывали планы кражи документов, а также прочих преступлений, которые предполагалось совершить для поддержания авторитета президента Никсона. Я слышал, как наверху расхаживают, а иногда начинали громко спорить. А у меня внизу ничего не было, только отопительные приборы да кондиционеры, и еще аппарат с кока-колой, про него, похоже, никто и не знал, кроме меня. Я единственный аппаратом этим пользовался.
Да, сидел я, значит, у себя в кабинете и всякие студенческие газетки почитывал, журнальчики там разные – «Роллинг стоун», и «Чокнутый папаша», и еще другие, которые, считалось, выражают мнение молодых. Мне надо было сделать перечень политических высказываний, встречающихся в популярных песнях. Поручили мне этим заниматься, думаю, прежде всего по той причине, что в Гарварде я сам был радикалом, с первого же курса начиная. И не каким-нибудь там болтуном, из тех, что в компании любят щегольнуть левизной. Я был сопредседателем гарвардской секции Коммунистической лиги молодежи. И соредактором радикального еженедельника «Массачусетский прогрессист». Короче, я был коммунистом с партийным билетом в кармане, не скрывал этого, гордился этим, пока Гитлер со Сталиным не подписали Акт о ненападении в тысяча девятьсот тридцать девятом. Я понял случившееся так: небо и ад объединяются против слабо защищенных повсюду на земле. И с тех пор снова, хотя и с оговорками, уверовал в капиталистическую демократию.
Было время, когда у нас в стране быть коммунистом настолько не считалось зазорным, что мне это не помешало поехать по стипендии Родза
после Гарварда в Оксфорд, а затем получить работу в рузвельтовском Министерстве сельского хозяйства. Ну что тут, в конце-то концов, такого уж отвратительного, тем более что была Депрессия и приближалась новая война за природные богатства да рынки. Что такого ужасного, если молодой человек верит: каждый пусть трудится, как способен, и каждого надо вознаграждать соответственно простым его потребностям, слабый он или сильный, старый или не очень, не обделен мужеством или робок, одарен или недалек? Кто бы стал утверждать, что я, мол, ничего не соображаю, когда лезу со своими разговорами про то, как мы могли бы обходиться без всяких войн, достаточно лишь, чтобы простые люди во всем мире взяли под свой контроль все богатства, распустили армии и забыли про государственные границы, – чтобы они почувствовали себя братьями, да, братьями и сестрами, а также отцами и матерями, равно как детьми трудового народа? И кого в это сообщество великодушных друзей нельзя допускать – так это тех, кто норовит больше заграбастать, чем им требуется.
Даже вот и сейчас, в свои шестьдесят шесть, когда уж мало что способно радовать, у меня сердце ходуном от радости начинает ходить, как увижу кого-нибудь, кто все еще считает возможным, чтобы со временем вся земля стала домом для одного огромного мирного семейства, для Семьи Человеческой. Да случись мне сегодня самого себя встретить, каким я был в тысяча девятьсот тридцать третьем, я бы от умиления, от восторга в обморок свалился.
Так что и в Белом доме при Никсоне мой идеализм еще не испарился, он даже в тюрьме не совсем увял, даже вот сейчас тлеет, когда я – самая последняя моя должность – стал вице-президентом компании звукозаписей «Музыка для дома», она в корпорацию РАМДЖЕК входит.
Я все еще верю, что мира, изобилия, счастья когда-нибудь можно будет достичь. По глупости верю.
Когда я с тысяча девятьсот семидесятого по семьдесят пятый состоял при Ричарде М. Никсоне специальным советником по делам молодежи и четыре пачки «Пэлл-Мэлл» без фильтра каждый день выкуривал, никто у меня не справлялся насчет фактов, мнений моих и прочего. Я бы мог на службу вовсе не являться, может, и правда лучше бы мне было сидеть дома да помогать бедной моей жене, у которой имелось свое небольшое дело – она дизайном занималась, уютно обустраивала квартиры, а контора ее была прямо у нас в крохотном таком, славненьком таком кирпичном бунгало, Чеви-Чейз, штат Мэриленд. Единственные посетители кабинета на цокольном этаже, где стены покрашены темно-зеленой краской и в пятнах от сигарет, – это президентские специальные грабители, у них офис прямо над моим. Раз я закашлялся сильно, и тут они сообразили, что внизу кто-то сидит, значит, может подслушать их разговоры. Так они опыты разные производить начали: один наверху орет, ногами топает, а второй прислушивается у меня в кабинете. Убедились, что ничего я слышать не могу, да и вообще безвредный старикашка, только и всего. Тот, который орал да топал, в прошлом служил оперативником в ЦРУ, а еще детективные романы сочинял – он окончил Браунский университет. А который у меня сидел, тот раньше был агентом ФБР, потом прокурором округа состоял – из университета Фордхэма он. Ну, а я, сказано уже, в Гарварде образование свое получил.
Вы не поверите: гарвардский выпускник, а все равно – знает ведь, что писульки его порвут, не читая, и сунут в мусорные мешки, заготовленные в Белом доме для прорвы бумажной, – все равно каждую неделю заготовляет по двести штук отчетов, как молодежь настроена да чего говорит, и сноски там, библиография, примечания, прочее такое. Хотя выводы год за годом получались у меня до того одинаковые, что можно было просто каждую неделю одну и ту же телеграмму посылать, пока не посадили. Вот такую примерно:
«Молодежь по-прежнему отказывается осознать невозможность всемирного разоружения и экономического равенства тчк не исключено всему виною Новый завет (см.) тчк
Уолтер Ф. Старбек, специальный помощник президента делам молодежи».
Закончив очередной свой бесплодный день в кабинете этом, я отправлялся домой, к жене, которая у меня всю жизнь была одна-единственная, к Рут то есть – она меня ждала в нашем крохотном таком кирпичном бунгало, Чеви-Чейз, штат Мэриленд. Она у меня еврейка (я – нет). Наш единственный сын – он книжки рецензирует в «Нью-Йорк таймс», – стало быть, наполовину еврей. В конфессиональные и расовые дела он внес дополнительную путаницу, женившись на певице-негритянке из ночного клуба, у которой двое детей от предыдущего мужа. Предыдущий муж тоже в ночных клубах выступал, он конферансье, а родом пуэрториканец и звать его Джерри Ча-Ча Ривера, – пристрелили его, подвернулся под руку, когда происходило ограбление принадлежащей корпорации РАМДЖЕК автомобильной мойки в Голливуде. Сын мой детей на себя записал, так что по закону они теперь мои внуки, единственные мои внуки.
Такова жизнь.
Покойная моя жена Рут, бабушка этих детей, родилась в Вене. У ее отца там антикварная книжная лавка была, пока нацисты не отобрали. Рут шестью годами меня моложе. Отец, мать, двое других детей из их семьи погибли в концлагерях. Саму ее одна христианская семья прятала, но потом раскрылось это, и в тысяча девятьсот сорок втором ее забрали вместе с главой этой семьи. И она тоже попала в концлагерь, который был под Мюнхеном, два последних года войны там провела, пока не пришли американцы и этот лагерь не освободили. Рут умерла в тысяча девятьсот семьдесят четвертом – у нее, когда она спала, разрыв сердца случился, это было за две недели до моего ареста. Меня куда жизнь ни кинет – бывало, и в совсем уж неподходящие места, – Рут туда же, со мною вместе, если только сможет. Иной раз не удержусь, удивляться этому начинаю, а она мне: «Как же по-другому? Мне-то что делать остается, ты как думаешь?»
А вообще ей бы переводчицей быть, прекрасно это у нее получалось. Языки она выучивала с невероятной легкостью, куда мне до нее. Я после второй мировой войны четыре года в Германии находился, но немецким так и не овладел. А Рут – не было такого европейского языка, на котором бы она не говорила, хоть немножко. В концлагере, к смерти приготовившись, все свое время проводила вот как: просит других заключенных научить ее их языку, если она его не знает. Так она по-цыгански начала свободно объясняться, выучила этот цыганский говор, и даже на языке басков несколько слов могла сказать – по их песенкам запомнила. А может, ей бы лучше живописью заняться, портреты рисовать? В лагере она и это дело освоила: пальцы сажей вымажет, которая нагорела на фонаре, и рисует сокамерников на стенке, старается, чтобы вышло похоже. Еще могла бы она стать отличным фотографом. В шестнадцать лет, за два года до того, как немцы Австрию аннексировали, она сняла фотоаппаратом сотню венских нищих, они все до одного были покалеченные ветераны первой мировой войны. Снимки эти потом продавали альбомчиком, я отыскал недавно один такой – где бы вы думали? – в нью-йоркском Музее современного искусства, от изумления у меня просто в сердце закололо. Ко всему прочему Рут и на пианино хорошо играла, а мне слон на ухо наступил. Я даже «Просеивает Салли» как следует напеть не сумею.
Короче говоря, по всем статьям я своей Рут уступал.
Когда в пятидесятые-шестидесятые дела у меня пошли совсем скверно, когда, несмотря на бывшие свои высокие посты в правительственных учреждениях, несмотря на все знакомства с важными людьми, мне не удавалось найти приличной работы, Рут – а кто же еще? – вытащила из пропасти наше маленькое и не слишком популярное в Чеви-Чейз, штат Мэриленд, семейство. У нее поначалу два раза не получилось: очень она было расстроилась, но потом над неудачами своими смеялась так, что слезы из глаз. Первая неудача вышла, когда она устроилась в коктейль-холле тапером. Хозяин этого заведения, когда ей расчет давал, говорит: уж больно хорошо она играет, не для такой публики это, «они ведь что поизящнее оценить не в состоянии». А второй раз не повезло, когда Рут взялась фотографировать на свадьбах. Снимки у нее мрачные какие-то выходили, словно завтра война, и ни один ретушер тут ничего не мог поделать. Впечатление такое, что вот веселятся, а завтра вместе с гостями в траншеях очутятся или в газовой камере.
Тогда Рут дизайном занялась, рисовала акварелью красиво обставленные комнаты и возможных клиентов приманивала: хотите, у вас такие же будут, уж постараюсь. Я-то всего лишь ей пособлял неумело, драпировки развешивал, демонстрировал на стене образцы обоев, записывал, что клиенты по телефону передадут, бегал по разным поручениям, подбирая ткани по лавкам, и так далее. Раз как-то спалил рулон бархата на обивку, больше тысячи он стоил. Понятно теперь, почему наш сын никогда ко мне уважения не испытывал.
Да и с какой, собственно, стати?
Бог ты мой, мать-то из сил выбивается, чтобы семья удержалась на плаву, каждый цент считает. А папаша, безработный, вечно всем только мешает, сам ничего не умеет, да еще из-за этого его курения рулон обивочной ткани сгорел, который стоит целое состояние.
Он, видите ли, в Гарварде обучался! Больно оно нужно, гарвардское образование, спасибо за честь!
Рут, кстати, маленького роста была, миниатюрная такая, кожа с медным отливом, волосы черные, прямые, на лице скулы выпирающие, а глаза запавшие, глубоко посажены. Когда я ее впервые увидел – в Нюрнберге это случилось, в тысяча девятьсот сорок пятом году, – она была в армейских штанах и гимнастерке, сидевших на ней мешком, и принял я ее за цыганенка. Мне тридцать два в тот год стукнуло, я на армию работал, но сам был штатский. Все еще неженатый. Штатским я оставался всю войну, но власти у меня, случалось, побольше было, чем у генералов с адмиралами. И вот попал я в Нюрнберг, первый раз увидел, как война все раскурочила, – глазам не поверишь. Меня командировали проследить за размещением и питанием делегаций союзников – американцев, англичан, французов, русских, когда трибунал начнет судить военных преступников. До этого я на разных курортах в Соединенных Штатах устраивал восстановительные центры для наших солдат, понаторел в этих делах, с отелями связанных.
С немцами я как диктатор должен был держаться, когда дело касалось продуктов, напитков там и номеров в гостиницах. Был у меня служебный автомобиль, белый мерседес, для экскурсий предназначенный – с откидным верхом, четыре дверцы, по ветровому стеклу что спереди, что сзади. Сирена на нем установлена. А над передними колесами дырочки для флажков. Я, понятное дело, американский флажок закрепил. Молодые скажут: ну и машина, такая разве что во сне пригрезится, – а на самом деле ее к годовщине свадьбы в доброе мирное время подарил супруге Генрих Гиммлер, придумавший концлагеря. Куда ни поеду, шофер меня везет, он же охранник. Если не забыли, отец мой тоже шофером-охранником у миллионера был.
И вот катим мы как-то августовским полднем по главной улице, по Кенигштрассе. Трибунал, который военных преступников судит, в Берлине собрался, но переедет в Нюрнберг, как только я все что нужно тут приготовлю. Улица еще там-сям мусором всяким завалена. Пленные немцы расчищают полосу движения, а за ними американская военная полиция присматривает, да так строго – оказывается, негритянскому подразделению это дело поручено. Тогда в армии у нас еще сегрегация была. Либо сплошь черный полк, либо сплошь белый, это не считая офицеров, потому что офицеры все равно почти всегда одни белые. Не скажу, чтобы мне это тогда чем-то странным казалось. О черных я вообще ничего не знал. В особняке Маккоуна черной прислуги не было, и в школах моих кливлендских черных тоже не было. Даже когда я коммунистом стал, ни одного черного среди моих приятелей не появилось.
У церкви Святой Марты на Кенигштрассе – крыша снесена прямым попаданием бомбы – мой мерседес остановил патруль. Американская военная полиция, белые. Ищут таких, которые не там, где им полагается быть, – цивилизацию-то уже начали восстанавливать по кирпичику. Дезертиров ищут из всех армий, какие ни есть, включая американскую, а также еще не опознанных военных преступников, и свихнувшихся, и просто уголовный элемент, который поразбежался с приближением фронта, и граждан Советского Союза – кого немцы угнали, а кто сам к ним переметнулся, и теперь вот на родину возвращаться для них труба: посадят, а то и к стенке. Но все равно надо было, чтобы русские к себе в Россию вернулись, а поляки в Польшу, а мадьяры в Венгрию, и эстонцы в Эстонию, и так далее. В общем, каждый пусть домой собирается, неважно, что там да как.
Любопытно, подумал я, где же полиция переводчиков берет, мне-то вот никак не удается подыскать толковых. Особенно мне нужны были такие, которые по три языка знают, чтобы помимо немецкого и английского могли еще с французами объясняться или с русскими. Да к тому же воспитанные должны быть люди, приятные в обращении, и чтобы я на них мог положиться. Вышел я из мерседеса своего, решил взглянуть, как проводят опросы задержанных. И вижу – ну, дела! – всем мальчишка такой заправляет цыганистого вида. Ясное дело, это Рут была. Ей в санпропускнике голову обрили, чтобы вывести вшей. Штаны, гимнастерка на ней армейские, но ни погон нет, ни знаков различия. Любо-дорого было смотреть, как она с каким-то живым скелетом управляется, которого полицейские привели, – выпытывает, кто он и откуда. На семи языках, кажется, пробовала с ним заговорить, нет, на восьми, и до того легко с одного на другой переходит, совсем как пианист, который пробует разные тональности. И жестикуляция при этом меняется, руки словно другие.
И вдруг, вижу, скелет этот в лад ей начинает шевелить руками, и звуки издает похожие, как будто они друг с другом в рифму заговорили. Рут потом рассказывала: македонец он оказался, крестьянин югославский. А разговор у них по-болгарски шел. Его немцы угнали в Германию, хоть он на фронте вовсе и не был, и заставили работать так, словно он раб какой, – линию Зигфрида укреплять надо было. По-немецки он так и не выучился. И теперь хочет в Америку – так он Рут сказал, – чтобы стать там богатым человеком. Думаю, отправили его назад, в Македонию эту.
Рут было тогда двадцать шесть, только последние лет семь до того она скверно питалась – все турнепс да картошка, – что выглядела как засохший кустик, и не поймешь: мужчина? женщина? Оказывается, она патрулю этому случайно на глаза попалась всего-то час назад, и ее взяли, потому что она знала столько языков. Сержанта их патруля спрашиваю: сколько ж ей лет? – А он в ответ: пятнадцать, наверно. Он думал, мальчишка это, просто голос еще не поломался.
Усадил я ее к себе в мерседес, на заднее сиденье, расспрашиваю, кто она да что. Выяснилось, ее весной, месяца четыре назад, освободили из концлагеря, и с тех пор она так вот и бродит, боится обращаться в комиссии, которые ей могли бы помочь. А то бы отлеживалась сейчас в госпитале для перемещенных лиц. Но как-то не хотелось ей кому-нибудь чужому свою судьбу вверять, хватит уже. И решила, что станет просто скитаться по дорогам совсем одна, ну как юродивые скитаются, и так вот попробует просуществовать без крыши над головой. «Меня, – говорит, – никто пальцем не тронет, и я никого не обижу. Живу себе, как птички вольные живут. Ой, как хорошо было. Только Господь Бог да я, и больше никого».
Я вот что подумал, на нее глядя: она на Офелию похожа, та ведь, когда жизнь стала невыносимой, точно так же скукожилась и в лирику пустилась. У меня книжка с «Гамлетом» под рукой, посмотрим-ка, что Офелия распевала, когда уж не могла разумно объяснить, что с ней такое творится, – ерунду какую-то, помнится. Ага, вот:
А по чем я отличу


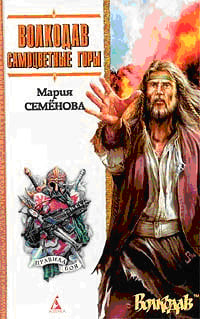

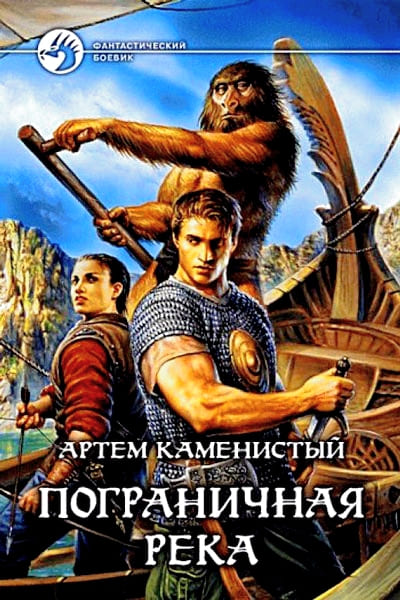
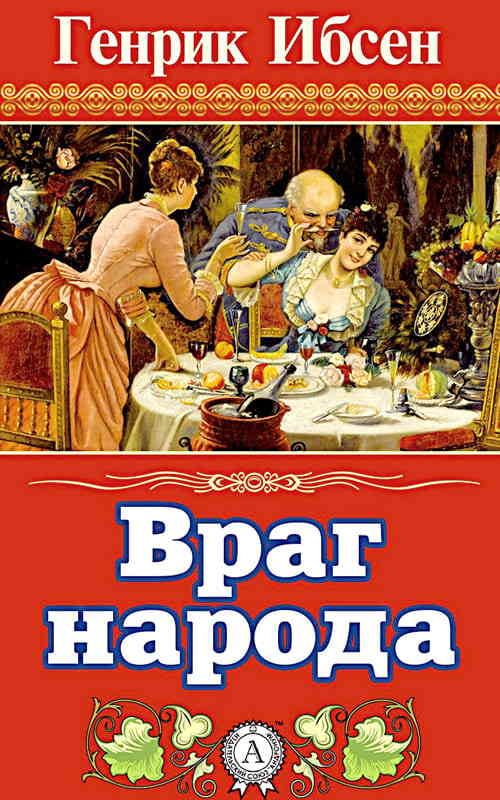
 Березин Федор
Березин Федор Шилова Юлия
Шилова Юлия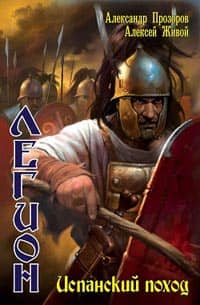 Прозоров Александр
Прозоров Александр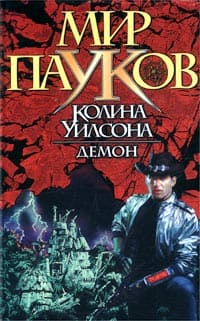 Прозоров Александр
Прозоров Александр Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна Пехов Алексей
Пехов Алексей