На мост, дремля в высоком казачьем седле, въехал рябой капитан-заамурец, командир последнего отступающего батальона; солдаты идут за ним торопливой пылящей толпой; и один шустрый солдатик с заломленной на затылок фуражкой, под общий смех, растягивает гармонику и пританцовывает с вывертом и коленцем:
«Иэх, гармонь моя, рязуха! Дождь идет, дорога суха! Иэх!..».
Тонкие губы Стоковецкого кривятся, кивнув на солдатское веселье, он презрительно бросает, звеня польским акцентом:
– Войска российской республики отступают в порядке, настроение войск бодрое! – и дав шенкеля белому коньку, говорит, – прапорщик Гуль, пошлите к саперам связь, скажите, что могут взрывать.
За телеленькающей в темноте гармоньей, за хохотом солдат мы проходим последними по селу. За нами, треща, взлетает горящими щепами слабенький мост и, занимаясь желтым огнем, начинают полыхать уцелевшие хаты.
Мы движемся по кукурузному полю. За нами, как театральным занавесом, занавешивается ночь. Кто там в ней, в этой дикой ночи, за этим оранжевым занавесом пожара? Там пока еще никого.
От арьергардных стычек, от бессонных ночей, от марша по растоптанным, изрытым полям, по лесам ломящимся и стонущим под обстрелом артиллерии, мы так устали, что, кажется, сейчас упадешь, уснешь. Но мы уже подходим к линии старых русских окопов, где нам приказано встать и держаться во что бы то ни стало.
III
День стоял прозрачно золотой, когда мы вошли в старые русские окопы. Это было под селом Клишковцы. Вокруг белых хат сливовые сады уж роняли лимонно-канареечный лист. Дальний лес краснел, лиловел, желтел. В голубой дымке утренника мы размещались в глинистых, глубоких окопах с прекрасными бойницами, проволочными заграждениями, извилистыми ходами сообщения, просторными блиндажами и землянками, и нам, утомленным походом, эти окопы показались прекрасными квартирами.
К тому ж они идут по живописной местности. На участке соседнего полка почти кавказская крутизна; а перед нами ровный луг с глубокой травой прямо вплоть до немецких окопов, упершихся в тающий бледным золотом лес.
Тишина, синева, осеннее отдохновение. Я иду поверху, вдоль линии окопов. Приземляться не хочется, иду с удовольствием, что прекратилось шатание по неизвестным лесам, ночные походы. Небо надо мной бледно-лазурное, в нем высоко преследуют друг друга два ястреба.
Наши солдаты спешно заплетают проволочные заграждения, чистят ходы сообщения, саперы навалили уже бревна, тес, поправляют блиндажи, землянки.
Немцы уже вошли в противоположные свои окопы и сейчас, вероятно, заняты тем же.
После обеда солдаты, лежа на дне окопа, спят, а на лугу, у землянки отдыхаем мы: я, капитан Лихарь, прапорщик Дукат и пулеметчики-поручики Юрко и Фатьянов. Из землянки вылетает, землей придушенная, песня фельдшера Бешенова, он поет легким фальцетом:
«Был я маленькай, был я глупенькай.
Отец, мать меня любили,
Меня в зыбочке качали
За подцепочки, за серебряны…».
А мы, глядя то в небо, то на золотеющий и краснеющий лес, разговариваем. Я говорю о том, что война явление неоднородное, что у нее кроме тяжелого быта и страшной были есть и своя увлекательная литература. Фатьянов молча перевертывается со спины на живот и неодобрительно смеется.
– Ты не смейся, Петр, это совершенно верно, – говорит петербургский студент, поручик Юрко, на смуглом лице его играют живые угли монгольских глаз, – вот мы лежим, курим, смотрим на этот лес и никто сейчас в Москве иль Петербурге не мог бы так понять, до чего он хорош, этот лес, и до чего хорош весь этот сегодняшний пушкинский осенний день. А мы можем, потому что на войне наши восприятия гораздо резче и живем мы, так сказать, сильней, ускоренней. Только надо суметь сохранить это наше, на войне нажитое уменье остро чувствовать и остро жить, его жаль было бы потерять, его надо сберечь во что бы то ни стало, чтобы им и в мирной жизни отличать ценное от всей той бытовой дряни, которой она загромождена.
Кадровому капитану Лихарю скучно, с сладким звуком зевоты он потягивается, расправляет тонкими пальцами холеные, волнистые усы. Дукат заснул, удобно уложив голову в сгиб локтя, он существо совершенно политическое и поддерживает только соответственные разговоры.
А Юрко, подперев черноволосую голову кистью бледной руки, продолжает говорить, обращаясь к Фатьянову.
– Вот ты послушай, мы движемся по незнакомой земле, это движение само по себе приятно, а если чувствуешь природу, оно приятно вдвойне. От физического труда, от утомления мы здоровы, чувства наши уравновешены, в голове нет преизбыточного многомыслия, и это тоже слава Богу, – заливисто, по-детски смеется Юрко, показывая мальчишеские блестящие зубы, – всё это дает мужественное ощущение жизни, отчего окопавшиеся в кабинетах штатские кажутся просто какими-то ихтиозаврами. Ведь наши отцы прожили, в сущности, самую пошлую жизнь за столом в столовой, за столом в кабинете, а умерли в чересчур им известной кровати, вот и всё.
Дукат посапывает во сне. Хрупкий блондин с неприятно неподвижными, светлыми глазами и чувственным ртом, капитан Лихарь пускает из вишневой трубки дым. И только Фатьянов, презрительно смеясь, отмахивается.
– Ой, пощади, Юрко, я сегодня плохо обедал и брось ты врать, ради Бога! Лес да небо! Ну, что ж тут хорошего? У тебя война вроде какой-то африканской экспедиции на леопардов, а мы знаем, что такое война, – говорит он с неожиданным оттенком злобы.
Фатьянов сын богатого волжского купца, студент-естественник. С Юрко они друзья, хоть Фатьянов и подсмеивается над романтическим петербуржцем, который не только в окопе, но даже на походе ежедневно выбрит. Лицо у Фатьянова румяное, славянски-правильное, может быть, с легкой примесью мордвы в скулах. Приятный облик этого пулеметчика как-то не вязался с тем цинизмом, с которым он смотрел на всё в мире. Фатьянов был, конечно, нигилист, но не «писаревец», «базаровец», а бытовой ежеминутный нигилист. Ему совершенно искренно было плевать на Россию, победу, войну, революцию, на жизнь других, на так называемую, мораль. В Кинбурнском полку он был единственным офицером, вступившим в партию большевиков. Хороший оратор, Фатьянов на митингах говорил солдатам о том, что Временное Правительство враждебно народу, что только большевики защищают трудящихся, что войну надо кончать немедленно, братаясь с немцами и втыкая штыки в землю. И арестовать его нельзя – взбунтуется полк, а, может, и вся дивизия, ибо солдаты считают Фатьянова «представителем интересов трудящихся».
– Война, это вот что, – продолжает говорить Фатьянов, – прежде всего это глупость, именно глупость, всегда и вовеки, хотя бы уж потому, что воюют-то ведь те, кто воевать совершенно не хочет, а те, кто говорят, что хотят воевать за родину и прочую ерунду, просто врут из трусости. Вдобавок эта глупость чрезвычайно скучная и неостроумная. Конечно, наш уважаемый верховный, генерал Корнилов, и все прочие генералы воюют с интересом, потому что это их профессиональный спорт, прекрасно оплачиваемый и, главное, довольно-таки безопасный. А посади ты самого скажем, императора Вильгельма на четыре года в окопы, так на первом же году он, как миленький, станет за немедленный мир. Ведь когда мы читаем в газетах, что генерал Ренненкампф разбит в Восточной Пруссии, это вовсе не зачит, что Ренненкампф разбит, это значит, что перебито превеликое множество безымянной скотинки ввиде солдат и офицеров отчасти, а Ренненкампф продолжает процветать и командовать, то-есть, заниматься тем же военным спортом и вести ту же самую, ему приятную жизнь. Мне рассказывал один полковник, что когда генерал Куропаткин приехал на фронт, он, собрав генералов, прямо будто бы сказал: «Ну, говорит, господа, для меня, в сущности, безразлично, буду ли я побежден или будут побеждать, моя военная карьера сделана, а вот вы, мол, старайтесь…». И правильно. Это и есть война генералов. Если же ты дурак, лезь для Ренненкампфа головой в печь, но знай, что заслуживаешь только улыбку сострадания. Всё это давно известно и вполне естественно и законно, умные едут на дураках, первых меньше, вторых больше. Но вот наши солдаты почувствовали, что можно не воевать, что смертная казнь за дезертирство тю-тю, больше нет ее и теперь воевать они, конечно, не будут, и правильно, довольно дураков! Ведь Керенский ничего умного не ответил окопному солдату, который сказал, что он не хотел умирать за царя и не хочет умирать за демократию? Керенский ведь не бросится сам на немецкие штыки за демократию иль бросится? Я думаю, что всё-таки едва ли, – резко смеется Фатьянов, оголяя плотные зубы, – и солдаты это великолепно понимают, что никто с ума не сошел и на штыки не бросается, что всякий человек «немножко подловат» и прежде всего хочет прожить свою собственную жизнь, а остальное всё от лукавого. И вот наше с вами пребывание в окопах, поручик Юрко, – улыбается Фатьянов, – просто совершенно ничем умным неоправдываемо, кроме того, что мы с тобой быдло, бараны. И война твоя вовсе не псовая охота, это ты себя только улялякиваешь, создаешь, так сказать, вспомогательные конструкции, чтоб не убежать от страха с фронта. Помнишь, как в 15 году, в Карпатах, в отступлении, трупами так воняло, что нас с тобой рвало? Вот это и есть война! И тебе через четверть часа попадет немецкая пуля в кишки, куда-нибудь поглубже, и будешь ты, Юрко, отвратным голосом орать, просить пить, лепетать всякие нежности о маме, а потом осклабишься и под этим солнцем так засмердишь, что тебя поторопятся где-нибудь поскорей прикопать. Чего ж тут «прекрасного»? Не трепись, пожалуйста, а скажи прямо, как вот я, мол, что всему этому военному небу, осеннему лесу и мужеству резких чувств я предпочитаю просто-напросто отпуск в Каменец-Подольск к тамошним хорошеньким девочкам.
Вынув трубку изо рта, Лихарь громко смеется, развевая свои пушистые усы.
– Вот насчет этой литературы и я с превеликим удовольствием! – и нахохотавшись, капитан под солнцем сладостно жмурится и, потягиваясь, говорит: – Ох, вкусно… могу даже рекомендовать не Каменец-Подольск, а Хотин… не так далеко ездить целоваться.
Мы все знаем, что Лихарь только что вернулся из Хотина и все смеемся.
– Ты, Фатьянов, шкурник и не понимаешь, что я говорю, – сквозь смех отвечает Юрко, – я вовсе не говорю, что война веселая африканская экспедиция, я только согласился с Гулем, что у войны есть своя увлекательная литература и она есть, для меня по крайней мере. А простреленные кишки, раны, уродства, смерти, это другое, это быль войны, это мы все знаем.
От шума голосов Дукат открыл заспанные глаза, приподняв голову, не понимая, где он и что такое?
– А мы знаем и другое, – продолжает отмахиваться от Юрко Фатьянов, – наши войска с боем заняли Перемышль, при чем отличился поручик Юрко, представленный к золотому оружию! И вот поручик Юрко едет в Петербург прельщать девченок золотым оружием, потому что вся эта офицерская форма, ордена, оружие спекулированы, в сущности, на женской психологии и с золотым оружием девчонку повалить можно куда скорее, чем без оного. Брось ты мне старые калоши заливать! На войне всё грязно, скучно, неприятно, и главное, чудовищно глупо, а в тылу всё и приятнее и, конечно, умнее потому, что там ведь и есть естественно-свойственная человеку жизнь, а здесь на войне мы живем в сплошной бессмыслице и всякий солдат это понимает, а вы, баре, приходите в восторг то от тишины леса, то от прочей ерунды, но всё это, в сущности, из-за страха, потому что вашу жизнь война у вас ежеминутно может отнять.
– Так я про то и говорю, – шумно перебивает его Юрко, – что война это великолепная школа для понимания полноценности жизни, ведь люди умеют ценить только то, чего лишаются, чего уже почти у них нет и этим то война и хороша, что учит по-иному ви деть и ценить жизнь.
– Брось, брось нести бессмыслицу, – замахал сломанной лозой Фатьянов, – ты, говорю, живешь неестественными, наживными представлениями, вот и разводишь эту несчастную ерунду, несусветное перекобыльство! Я по крайней мере честно говорю: я, поручик Фатьянов, 457-го Кинбурнского, Господа нашего Иисуса Христа, третьеочередного полка, стою за немедленный мир, – и, обращаясь к еще ничего не понимающему, сидящему на траве с заспанной щекой Дукату, Фатьянов кричит: – Да, да, Дукат, за немедленный мир! Потому, что уроженец города Риги Даниил Эдуардович Дукат очень любит Россию, а я вот, Петр Васильевич Фатьянов, уроженец города Казани, не люблю Россию, а люблю остроумие, как сказал у богопротивного Достоевского какой-то весьма неглупый персонаж!
– Не старайтесь, Фатьянов, – с легким латышским акцентом отвечает Дукат, – мы давно знаем, что для вас России не существует.
– А что такое Россия? Скажите пожалуйста? Это же миф, Дукат, несуществующее! Что вы начнете мне из учебника энциклопедии права говорить о народе, власти, территории? Но ведь всё ж это ерунда и вздор. Вот дважды два это всегда есть четыре, нерушимо и вовеки, а Россия, сегодня она есть, а завтра ее нету, чего ж лоб-то разбивать? – и Фатьянов смеется.
– Это всё, конечно, очень замечательно, что вы говорите, – сдерживая раздражение, отвечает Дукат, но дважды два четыре меня не волнует, а вот временная Россия меня волнует, я ее люблю, а раз люблю, то и воюю за нее, вот именно: за власть, за народ, за территорию.
От немецких окопов в безоблачьи неба, в блеске солнца с гудящим звоном, высоко паря серебряной мухой, на нас наплывает аэроплан. Сев по-турецки и застив ладонью глаза, капитан Лихарь глядит на него.
– Фокер, – говорит он.
Все смотрят на аэроплан. Как только он залетает за наши окопы, за лесом ухает наша пушка и недалеко от аэроплана тающим цветком вспыхивает разрыв шрапнели.
– Ну, вот, разве не зрелище! – говорит Юрко.
– Для «зрелища», погоди, он сейчас бомбу сбросит, – отвечает Фатьянов.
А серебряная муха гудит в окружающих ее всё плотнее разрывах шрапнелей. Еще один меткий разрыв, словно прямо в аппарат и вдруг, вертясь и кувыркаясь, как на тяге подбитый вальдшнеп, аэроплан падает вниз, прямо за наши окопы.
– Сбил! сбил! – радостно кричат и бегут наши солдаты. Но над самой землей кувыркающийся аппарат вдруг резко выравнивается и с густым гулом проносится над окопами, над пространством ничьей земли, скрываясь за немецкой линией.
– Ушел, стерва, – говорит тихий солдат-старовер и в тоне его спортивное сожаление; так скажет промазавший стрелок или зритель о сорвавшемся на финише скакуне.
– Хороша у него печёнка, тудыть его в душу, до чего же кувыркался, а? – смеется фельдшер Бешенов.
Я смотрю в бинокль на немецкие окопы. Меж нами расстояние с версту. Так же, как мы, они лазят там по ходам сообщения, вылезают, ходят в лес за водой, возвращаются с котелками обратно. Среди дня оттуда нет-нет да свистнет пуля, а в одном колене нашего окопа нельзя пройти: какой-то немец установил стукач и как только появляется русский, он стреляет. Отличный стрелок, вероятно, часами сидит, карауля появление нашей «движущейся мишени»; он уже ранил двух; но теперь мы углубили окоп и за стукачем он просидит зря.
IV
Бой под Клишковцами начался ураганным огнем немецкой тяжелой артиллерии. Эта подготовка к атаке осталась навсегда в моей памяти. Небо в ту ночь было так черно, будто кто-то выкрасил его тушью, а звезды были так выпуклы, будто кто-то наклеил их в черном куполе. В эту чернозолотую ночь и открылся огонь.
Он начался одиночными выстрелами по участку нашего полка, но учащался, и вскоре шелестящий визг снарядов, взрывы гранат, завыванье осколков, кряканье мин, всё слилось в сплошной перекат грома, в какое-то адово светопредставленье.
Черное пространство ничьей земли то и дело прорезалось слепящими снопами наших прожекторов, искавших атакующую пехоту; в грохочущем небе взлетали там и сям ракеты; взрывами гранат клубы дыма окрашивались в багровый цвет.
Из души выключилось всё. В окопах прижались наблюдатели; солдаты набились в землянки, в блиндажи; сидя в такой набитой солдатами землянке, я не в состоянии был ни о чем думать, я только бессмысленно внутренне повторял: «скорей бы атака… пусть наступают… всё равно… лучше рукопашная, чем этот ад…».
Особо оглушающим, рвущим барабанные перепонки, крякающим треском разворачивали землю минометы. Наши окопы разворочены ими уже в трех местах. Санитары тащили стонущих, исковерканных, окровавленных раненых, а убитые оставались в темноте на сырой земле, их только оттаскивали за ноги к сторонке, чтоб не мешали.
Так прошла ночь. Перед рассветом, под немолчный ответный гул нашей артиллерии, немцы поднялись из окопов в атаку, но нашего огневого урагана не выдержали, не дошли и посредине пространства ничьей земли, бросив у нашей проволоки своих убитых и раненых, кинулись назад; и снова загремела кромешная дуэль двух артиллерий, хоть уже и стихающая.
Успокоило всех только солнце, когда оно показалось над окопами. У проволочных заграждений оно осветило убитых немцев, у нас – убитых наших. И артиллерия и пулеметы стали вдруг смолкать и смолкли. В тишине тогда началась обычная окопная жизнь и у нас и у них. Пошли к роднику за водой, в ходах сообщения пошли оправиться, задымились котелки, закурились цыгарки, кухни подвезли еду.
А когда пришла новая ночь, в полной боевой готовности мы стали ждать повторной немецкой атаки. Но ее не было. Ночь прошла только в нервной ружейной перестрелке, начинавшейся всегда одиноким выстрелом караулов. Караулы стреляли зря, от взволнованности. В темноте люди всегда неспокойны. Разорвет ночную тишину выстрел, откликнется другой, вдруг коротко застрекочет пулемет и стрельба покатится по всей темной линии, перебегая с одного полкового участка на другой, дальше и дальше, и вся ночь начнет разрываться искристыми цепочками огней, пока всех не успокоют бело-желтые ослепительные светы прожекторов и взлеты и паденья разноцветных ракет.
Но всё-таки вполне людей успокаивало всегда только солнце. Поднимаясь из желтоледяного тумана над окопами, оно разогревало тела и прогоняло у всех темные, ночные душевные страхи.
V
Обжиться человек может даже в окопах, только нет календаря и поэтому мы потеряли время. Сколько недель мы здесь? И у нас, и у немцев из окопов тонкими струйками тянутся дымки. Сидя на корточках в ходах сообщения, солдаты на потрескивающих кострах варят едово, свеже-строганными палочками помешивают в котелках суп; в окопе, сидя в кружок, играют в карты, в три листика. Над нами плывут кубовые осенние тучи. Где-то идет перестрелка. Моросит дождь. Я сижу у землянки и прислушиваюсь к заунывной песне, что тихо и уныло, в три голоса поют Богачев, Мамчур и Солоха. Они поют любимую окопную солдатскую песню, сочиненную русским неизвестным солдатом. У песни нет мелодии, рифмы, солдаты поют ее на мотив «Стеньки Разина», только гораздо протяжней, унывней и медлительней.
«Хорошо тому живется – слушать ласковы слова. Посидел бы ты в окопах, испытал бы то, что я. Мы сидим в открытых ямах, по нас дождик моросит, А засыпят пулеметы, так поверь, что нельзя жить…».
Слушая эту песню, я думаю, что если б в немецких окопах родилась такая же (а она, может быть, могла бы родиться и там), за нее бы отдавали под суд и она бы умерла. А у нас поют и под суд за нее никто никого не отдает.
– Да, начитаешься вот его, священного писания-то, так аж прямо волосы поднимаются, – слышу я тихий разговор Бешенова и санитара-молоканина, у которого круглое безволосое лицо младенца, – вот, к примеру, как это Господь в красном костюме-то шел…
– Да, откель это?
– Откеля? Оттеля, про грешников, из Второзакония.
И не получая ответа, молоканин опять говорит:
– Думал я вот, не сказано в писании, что, к примеру, апостолы ели, чем закусывали, всё хлеб да вода и боле ничего.
– Даа, – тянет, не найдя ответа фельдшер, – и чудное, говорю, это дело, никто вот войны не хотит, а всё воюют и отчего это пошло, а?
Тонкий визг пули с немецкой стороны разрывает денную тишину. Пуля жалобно тыкается в бруствер.
Оборвав пенье, приподнявшись из окопа, с юмористической злобой Богачев кричит:
– Что ты, немец, одурел, ядрена мать, пообедать не даешь!
– Это он с тобой здоровкается, Богачев, к обеду закуску посылает.
– Хрен с ним, товарищи. Котелок кипит, седай есть, а он пущай постреляет, – говорит Богачев и солдаты садятся вокруг котелка, вытягивая из-за голенища деревянные ложки и с вкусным присвистом отхлебывают суп. – Ешь со всем, – ловя плавающие кусочки мяса, говорит Богачев и пожевав, в раздумьи добавляет, – скоро наш полковник приедет, вот рысковый… под Тарнополем, кады прорыв делали, передом шел.
– Куда его ранило?
– Сюды… в щеку, – показывает ложкой на щеку Богачев, – я от него шагах в десяти, не боле, был. Зодорово его цапнуло, аж упал.






 Флинт Эрик
Флинт Эрик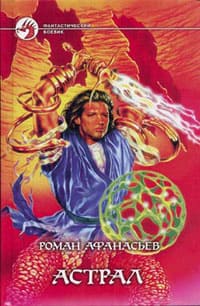 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Посняков Андрей
Посняков Андрей Майер Стефани
Майер Стефани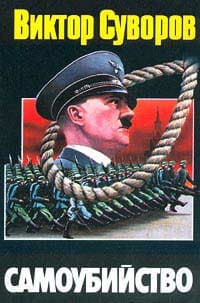 Суворов Виктор
Суворов Виктор Беляев Александр
Беляев Александр