Вашего дружка?
Плащ паломника на нем
Странника клюка.
Помер, леди, помер он,
Помер, только слег.
В головах зеленый дрок,
Камушек у ног.
И дальше в том же духе.
Рут, одна из миллионов Офелий, бродивших по Европе после второй мировой войны, потеряла сознание в моем мерседесе, на заднем сиденье.
Я ее доставил в официально еще не открывшийся госпиталь на двадцать коек в Кайзербурге, это роскошный такой замок. Госпиталь предназначался исключительно для работающих в трибунале. Главным врачом там состоял один мой гарвардский однокурсник, доктор Бен Шапиро, он в студенческие годы тоже коммунистом был. А теперь он подполковник медицинской службы. В Гарварде, когда я там учился, евреев по пальцам можно было пересчитать. Точно определенная квота существовала, причем небольшая: вот столько-то евреев принять каждый год, и ни одного больше.
– Ну что, Уолтер, какие проблемы? – спрашивает. А я Рут на руках вношу, она так в себя и не пришла. Весила она – платок носовой тяжелее.
– Видишь, – говорю, – девушка вот. Еще дышит. Послушал бы, как она на разных языках говорит. Обморок у нее, понимаешь. А больше ничего про нее не знаю.
У Бена целый штат был сиделок, поваров, техников и так далее, делать им нечего, а уж лекарства, продукты – все самое лучшее, что на армейских складах нашлось, пациенты-то высокопоставленные ожидались. Так что Рут такую медицинскую помощь получила, какой тогда нигде в мире нельзя было получить, причем бесплатно. А почему? Главным образом, думаю, потому, что мы с Беном в Гарварде на одном курсе учились.
Примерно год спустя, 15 октября тысяча девятьсот сорок шестого, Рут стала моей женой. Нюрнбергский процесс закончился. В тот день, когда мы поженились и, похоже, сделали своего единственного ребенка, рейхсмаршал Герман Геринг надул тех, кто его вешать собирался, – цианистый калий проглотил.
Витамины да соли разные Рут на ноги поставили, да еще белки, а главное, само собой, уход заботливый, с любовью. Всего три недели в госпитале провела, а вижу, становится настоящей интеллигенткой из Вены – остроумной, жизнерадостной. Взял я ее на службу в качестве своего личного переводчика, и всюду она со мною разъезжала. С помощью еще одного знакомого по Гарварду, незаметного полковника, который в Висбадене в службе тыла работал – уж наверняка на черном рынке промышлял, – удалось мне кое-какую одежку для нее раздобыть, за которую – ума не приложу, отчего, – не пришлось выложить ни доллара. Шерсть шотландская, все хлопковое из Египта, а шелк, надо полагать, прямиком из Китая. Туфли французские, к тому же сделанные еще до войны. Помню, одна пара из крокодиловой кожи была, и к ней сумочка такая же. Цены этому барахлишку не было, ведь по всей Европе, да и Северной Африке тоже, нигде бы магазинчика такого не отыскалось, чтобы подобный товар в те годы предлагал. И размеры – ну в точности как на Рут сделано. Приволокли ко мне в офис картонные коробки с этими сокровищами, которые на черном рынке раскопали, а в коробках, мол, бумага, документы размножать, – собственность королевских военно-воздушных сил Канады. Привезли это добро двое неразговорчивых молодых людей, армейской санитарной машиной воспользовались, какая осталась от немцев. Один из них – Рут сразу догадалась – бельгиец был, а другой литовец, как моя мать.
Принял я доставленное, на самое крупное нарушение пошел, пока состоял чиновником государственных служб, да что крупное – единственное это было у меня нарушение – до Уотергейта. И пошел я на него из-за любви.
Про любовь я с Рут разговоры повел, сразу как она из госпиталя выписалась и поступила ко мне на работу. Она же в ответ все шуточки, все замечания всякие проницательные – только очень уж мрачно она настроена была. Считала, и должен признать – не без причины, что люди все до одного по природе своей злые, и нет особой разницы, мучители они, жертвы или так себе, безучастные наблюдатели. Ничего от них, говорит, ждать не приходится, только трагедии бессмысленные из всех их затей получаются, потому что не хватает соображения, чтобы добром дело окончить, даже если хотят добра. Мы, говорит, вроде опухоли, вот один участочек вселенной из-за этой опухоли уже омертвел, только она дальше и дальше пойдет.
– Что это вы мне все про любовь да про любовь, – сказала она как-то, когда я только начал за нею ухаживать. – Я ведь так думаю, что лучше бы всего детей вообще больше не рожать, пусть человечество на нас закончится.
– Ничего вы такого не думаете, – говорю, – меня не обманете. Да бросьте, Рут, я ведь вижу, в вас столько жизни!
Так оно и было. Да у нее любое движение хоть невзначай, а обязательно кокетливым выходило, любое словечко, а раз кокетничает, значит, верит, что жизнь должна продолжаться вечно, правильно ведь?
Обаяния в ней было, Бог ты мой! Да, а меня между тем награждали за то, что все как по маслу шло. Родина меня медали «За заслуги» удостоила, Франция – ордена Почетного легиона, Великобритания и Советский Союз благодарственные письма прислали. Хотя вообще-то всем этим я Рут обязан, она прямо чудеса творила, и каждый, кого мы принимали да размещали, блаженствовал себе – хоть бы все вкривь и вкось шло.
– Говорите вот, что вам жизнь отвратительна, откуда же у вас столько жизненной энергии берется? – спрашиваю.
– Какой там еще энергии, – машет она рукой. – Детей у меня все равно быть не может, даже если захочу.
Сами понимаете, напрасно она так думала. Просто вбила себе в голову. Кончилось тем, что она-таки родила сына – очень, между прочим, неприятный тип, он теперь рецензирует книжки в «Нью-Йорк таймс», да я уж говорил.
Так вот мы с ней и беседовали в Нюрнберге, долго беседовали. Рядом с церковью Святой Марты разговор происходил, где нас свела судьба. Службы в этой церкви еще не возобновились. Крышу, правда, опять поставили, но где раньше окно-розетка было, пока что пришлось натянуть брезент. Старик-сторож рассказывал: окно это, а также алтарь бомбой с английского истребителя разворотило – прямое попадание. Так торжественно обо всем этом повествовал, что, видно, счел случившееся одним из чудес, на какие вера подвигает. Должен сказать, мало встречал я немцев, которых огорчало, что их страна превратилась в руины. Мужчины их ни о чем другом и говорить не желали, только про баллистику – нет, ну надо же, как научились замечательно стрелять.
– Жизнь, – говорю, – это не только детей рожать.
А она в ответ:
– Если б у меня родился, так уж точно урод какой-нибудь.
Как в воду глядела.
– Ладно, – говорю, – хватит про детей. Вы только подумайте, ведь совсем новая эпоха наступает. Мир наконец кое-чему научился, понял кое-что. Десять тысяч лет все как полоумные, только норовили побольше хапнуть, но теперь все, тут, в Нюрнберге, черта под этим подводится. Про это еще книги будут писать. И фильмы снимут. Самый важный поворотный пункт в истории. – Тогда я действительно так думал.
– Знаете, Уолтер, – отвечает она, – мне иногда кажется, вам от роду восемь лет, не больше.
– А больше и не надо, – говорю, – раз новая эпоха начинается.
Тут по всему городу начали бить часы, шесть вечера. И в этом колокольном хоре новый голос прозвучал. Вообще-то не новый это был голос, только мы с Рут никогда его раньше в Нюрнберге не слышали. А был это густой бас Mannleinlaufen, как называют особенные такие часы на Фрауенкирхе, которая стоит в стороне от центра. Башню с этими часами построили четыреста лет назад, даже больше. Мои предки, и литовские, и польские, тогда, должно быть, воевали с Иваном Грозным.
На часах этих семь фигур видно было, изображающих семь выборщиков четырнадцатого века, и все они двигались. Они вокруг восьмой фигуры были поставлены, которая тоже двигалась, и эта фигура представляла Карла IV, императора Священной Римской империи, а все сооружение возвели по случаю того, что Карл IV в тысяча триста пятьдесят шестом году покончил с такими порядками, когда нельзя было выбрать правителей Германии без санкции папы. От бомбардировок часы совсем перестали ходить. Солдаты наши американские, которые хорошо разбираются в механизмах, как только в город вошли, сразу принялись чинить эти часы в свободное время. Немцы, с которыми мне доводилось иметь дело, почти все до того пали духом, что им уже безразлично стало, хоть бы этот Mannleinlaufen никогда больше голоса не подал. А вот, пожалуйста, работает, как новенький. Это благодаря гению американскому выборщики снова императора своего ходить заставили.
– Пусть так, – сказала Рут, дождавшись, чтобы стих колокольный звон, – только, когда вы, восьмилетние, истребите зло вот здесь, в Нюрнберге, не забудьте, пожалуйста, труп на перекрестке зарыть да вбить осиновый кол прямо в сердце, не то выберется из могилы на свободу, как только луна взойдет, – берегитесь!
3
Однако победил мой бестрепетный оптимизм. В конце концов Рут согласилась стать моей женой, дав мне шанс попытаться превратить ее в самую счастливую из женщин, невзирая на все кошмарное, что было в ее жизни. Она девственница была, как, в общем-то, и я, хоть мне уж тридцать три сравнялось, стало быть, полжизни позади.
Нет, вы не подумайте, я, когда в Вашингтоне крутился, конечно же, как теперь выражаются, трахался от случая к случаю то с одной, то с другой. Одна была из Женского вспомогательного корпуса. Другая – медсестра, к флоту приписана. И еще стенографистка, в Министерстве торговли работала, отдел документации. Но, если разобраться, жил я тогда строго, как монах, который всего себя одному-единственному посвятил – служению победе, победе, вот именно, победе. И таких, как я, много было. Ничто на свете так мною не владело, как это одно, безраздельное – победа, победа, вот именно,
победа.
На свадьбу я подарил Рут деревянную статуэточку, которую сделали по моему заказу. Две старческие руки, сложенные и воздетые в мольбе. Переведенный на язык скульптуры рисунок Альбрехта Дюрера, художника шестнадцатого века. Мы с Рут, пока я за нею ухаживал, много раз посещали его дом в Нюрнберге. Если память не изменяет, это я и придумал знаменитый его рисунок со сжатыми руками в пластическую форму перевести. Потом рук этих понаделали в мастерских полным-полно, в любую сувенирную лавочку зайди, и вот они, пожалуйста, – на радость малахольным, которым вздумается продемонстрировать свое благочестие.
Вскоре после нашей свадьбы перевели меня в Висбаден, неподалеку от Франкфурта-на-Майне, и поручили возглавлять группу экспертов, которые разгребали горы немецких технических патентов, изобретения всякие отыскивали да коммерческие тайны, чтобы ими смогла воспользоваться американская промышленность. В математике я ничего не смыслю, в химии тоже, и в физике, но это не имело значения – взяли же меня на работу в Министерство сельского хозяйства, и не имело значения, что я в жизни на ферме не бывал, даже фиалки на подоконнике и то отродясь не выращивал. Кто кончил гуманитарное отделение, везде руководить сумеет, так по крайней мере тогда считалось.
Сын наш в Висбадене родился, пришлось делать кесарево сечение. Бен Шапиро всем этим занимался, он у меня и на свадьбе был шафером – его тоже в Висбаден перевели. Он как раз получил полковника. А через несколько лет сенатор Джозеф Р. Маккарти выяснит, что напрасно ему полковника дали, поскольку ни для кого не секрет: до войны Бен Шапиро был коммунистом. «Кто приказ о переводе Бена Шапиро в Висбаден отдал?» – вот что ему хотелось непременно установить.
Назвали мы сына Уолтером: Уолтер Ф. Старбек-младший. Нам и в голову прийти не могло, что он будет стыдиться этого имени, словно его Иуда Искариот-младший зовут. Только ему двадцать один год исполнился, он бегом в суд фамилию менять и не успокоился, пока не стал Уолтером Ф. Станкевичем, так и подписывает свои рецензии, которые в «Нью-Йорк таймс» появляются. Не забыли? Станкевич была фамилия моего отца, которую он поменял. Смешно мне становится, как вспомнишь рассказы отцовские, что ему сказали на Эллис-Айленд, когда он прибыл иммигрантом в Америку. Ему сказали: Станкевич – на американский слух как-то неприятно звучит, подумают, от человека с такой фамилией должно скверно пахнуть, хоть бы он просиживал в ванне от зари до зари.
Вернулся я с маленькой своей «семьей человеческой»
в Соединенные Штаты, опять в Вашингтон, округ Колумбия, осенью тысяча девятьсот сорок девятого. Оптимизм мой стал прямо-таки железобетонным, ни щелочки, ни трещинки не отыскать. Купили мы дом, единственный собственный дом, какой был у меня за всю жизнь, то самое крохотное бунгало в Чеви-Чейз, штат Мэриленд. На каминную полку Рут ту статуэточку поставила – руки воздетые, по рисунку Альбрехта Дюрера. Два, говорит, обстоятельства побудили ее этот вот дом выбрать, никакой другой. Во-первых, там нашлось самое подходящее местечко для рук. А во-вторых, над дорожкой к крыльцу старое, согнутое дерево нависает, тень дает. Яблоня это была дикая, по весне вся в цвету.
Спросите: она набожная, что ли, Рут ваша? Нет. Она из такой семьи происходила, где ко всем формальным обрядам относились очень скептически – нацисты рассматривали подобный скепсис как проявление еврейского духа. Близкие Рут верующими себя не считали. Я ее как-то спрашиваю: «Ты, когда в лагере была, пробовала найти утешение в религии?»
– Нет, – говорит. – Я же понимала: Бог в такие места никогда не наведывается. И нацисты это понимали. Оттого и не боялись ничего, им только весело было. В этом сила их была, нацистов то есть, – говорит. – Они насчет Бога лучше прочих понимали. Им было известно, как сделать, чтобы Бог в их дела не вмешивался.
До сих пор голову себе ломаю, что она имела в виду, когда как-то на Рождество произнесла за столом тост, году в семьдесят четвертом это было или что-то вроде того. Тост я один и слышал, потому как никого больше у нас в бунгало не было. Сыночек даже открытки рождественской не прислал. А произнесла она вот какой тост, и я бы не удивился, если бы при первой же нашей встрече в Нюрнберге то же самое от нее услышал, только бы логично было: «Выпьем за Всемогущего Бога, первого лентяя во всей округе».
Так и сказанула.
Да, значит, сижу я на койке своей тюремной в Джорджии, руки старческие в пятнышках сложил – ну, в точности как у Альбрехта Дюрера на рисунке, – и жду, когда опять для меня жизнь на воле начнется.
Нищий я был, гол как сокол.
Все сбережения свои ухнул, и страховку пришлось продать, и машину – фольксваген у меня был, и кирпичное бунгало в Чеви-Чейз, штат Мэриленд, – адвокатов ведь надо оплачивать, хотя зря старался, уж какая там защита.
Адвокаты утверждают, что я им еще сто двадцать пять тысяч долларов должен. Возможно. Все возможно.
Тут бы в самый раз славу свою запродать, только не для меня это. Я был самый старый из всех, кому пришлось держать ответ за Уотергейт, и меньше других известен публике. Никакого интереса для нее не представляю, а все оттого, думаю, что мне особенно терять нечего было – ни власти у меня, ни денег. Другие-то, кто со мной в заговоре состояли, они, как бы это выразиться, пенки снять сумеют, хоть на самой высокой колокольне суп вари. А тут что: ну, забрали чиновника, который в полуподвале штаны протирал. Что мне сделать-то могли? Разве что еще ножку подпилят на стуле моем, и без того колченогом.
Да мне и самому было наплевать. Жена у меня умерла за две недели до моего ареста, сын со мной и разговаривать не желал. А все равно – наручники нацепили. Все как полагается.
– Фамилия? – сержант полицейский, который за мной явился, спрашивает.
Я думаю: пропадать, так с музыкой. Почему нет?
– Гарри Гудини
– говорю.
Взлетел с ближайшей полосы истребитель, разодрал небо в клочья. Каждый день, с утра до ночи.
«Ладно, по крайней мере я курить бросил», – думаю.
Раз как-то сам президент Никсон высказался насчет того, что курю слишком много. Я тогда только начал у него в администрации работать, весной тысяча девятьсот семидесятого это было. Вызвали меня на срочное совещание: национальные гвардейцы штата Огайо пристрелили четырех студентов университета Кент, участников антивоенной демонстрации. Человек сорок на совещание собралось. Президент Никсон сидел во главе огромного овального стола, а я в самом конце местечко занял. Первый раз я его вживе увидел с тех пор, как лет за двадцать до того привелось на него взглянуть, он тогда просто конгрессменом был. До этого случая не изъявил он желания со своим специальным помощником по делам молодежи встретиться. И так получилось, что больше у него желания со мною встречаться не возникнет.
Верджил Грейтхаус присутствовал, министр здравоохранения, просвещения и социальных пособий, о котором говорили, что он из самых близких друзей президента. Он начнет срок свой отбывать в тот самый день, как мне из тюрьмы освободиться. И вице-президент Спиро Т. Агню тоже присутствовал. Его обвинят в том, что взятки брал и от уплаты налогов уклонялся, а он заявит
nolo contendere. Был еще Эмиль Ларкин, из всех президентских помощников самый озлобленный, настоящий ястреб, все его боялись. Потом он возвестит, что Иисус Христос вознамерился спасти лично его, никого другого, – ему большой срок грозил за лжесвидетельство и противодействие правосудию. Был Генри Киссинджер. Он впоследствии порекомендует массированный налет на Ханой в Рождество. Был Ричард М. Хелмс, глава ЦРУ. Его потом уличат в том, что лгал на слушаниях в Конгрессе, хотя поклялся говорить правду, ничего, кроме правды. Х.Р. Холдмен присутствовал, и Джон Д. Эрлихман, и Чарлз У. Колсон, и Джон Н. Митчелл, генеральный прокурор. Все они тоже сядут, один за другим.
Я перед этим совещанием всю ночь не спал, набрасывал для президента свои соображения по случаю трагедии в университете Кент. Я так считал: от судебной ответственности гвардейцев надо сразу освободить, затем порицание им вынести и уволить из гвардии без права восстановления. А еще надо, чтобы президент распорядился провести повсеместную инспекцию Национальной гвардии на предмет установления, допустимо ли выдавать ей боевые патроны, когда эти штатские надевают мундиры и выходят против безоружной толпы. Надо, чтобы президент в своей речи назвал случившееся ужасной трагедией, чтобы все видели: у него сердце от горя прямо разрывается. Надо, чтобы он национальный траур объявил – день, а может, и неделю национального траура, когда везде флаги приспущены. Причем траур не только по этим погибшим из университета Кент, а по всем американцам, которых во Вьетнаме на войне убило или покалечило физически, а также психологически. И тогда он вправе еще большую, чем обычно, решимость выразить: война, без всяких сомнений, должна быть доведена до победного конца.
Только никто и не подумал пригласить меня высказаться на том совещании, и бумажки мои приготовленные никому просмотреть не захотелось.
А под конец сам президент заметил, что надо мной столб дыма стоит, так на меня и уставился – все замерли. У Эмиля Ларкина спрашивает: это кто такой?
И улыбочка кривенькая такая по его лицу пробежала, верный признак, что сейчас шуточку отпустит. Мне эта улыбочка всегда напоминала розовый бутон, по которому врезали молотком. Что же касается шуточки его, то это был единственный раз, когда он что-то действительно остроумное сказал, так по крайней мере все считают. Может, поэтому я и останусь в истории: по моему поводу Никсон единственный раз в жизни удачно пошутил.
– Прервемся на минуточку, – сказал он, – вы поглядите на нашего специального советника по делам молодежи: вот как надо костры разжигать.
И все вокруг захохотали.
4
Хлопнула дверь нашего спального корпуса – а камера моя как раз над дверью, – и я подумал: вот и Клайд Картер, пришел наконец. Но тут на лестнице как запыхтят, загорланят: «Чертог с небес за мной спустился»
– ясное дело, Эмиль Ларкин это, ястреб президентский. Здоровенный был мужчина, глаза навыкат, губы как кровью перемазанные, просто кусок печенки, а не губы, – он в свое время за Мичиганский университет в бейсбол играл, на задней линии. А теперь он всего лишь юрист, у которого отобрали лицензию, и день напролет молится да хвалу возносит тому, кого принимает за Иисуса Христа. Между прочим, на работы Ларкина не посылали, даже помещение наше убирать не требовали, потому что он все молился, по цементному полу с утра до ночи ползал, и плохо это для него кончилось. Ноги у него совсем перестали сгибаться, как у горничной набегавшейся.
Добрался он наверх, а из глаз слезы градом.
– Ах, брат мой, Старбек, – говорит, – тяжело мне по лестнице подниматься, и радуюсь я, что так тяжело.
– Понятно, – отвечаю.
– Ко мне Иисус приходил, – сообщает он. – И вот что сказал: ступай к брату Старбеку, последний раз попроси его с тобой вместе помолиться, а что трудно тебе лестницу одолеть, про это позабудь, знаешь почему? Потому что на этот раз брат Старбек преклонит колени свои, про гордыню гарвардскую позабыв, и вслед тебе молитву вознесет.
– Жаль, что огорчить Его придется, – говорю.
– А ты разве когда Его радовал? – спрашивает. – Я вот тоже раньше такой был, только огорчал Иисуса каждый день.


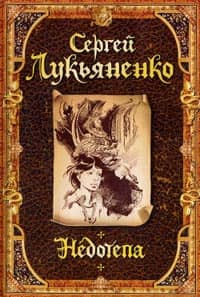

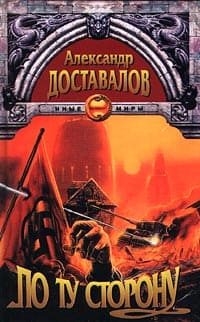

 Эриксон Стивен
Эриксон Стивен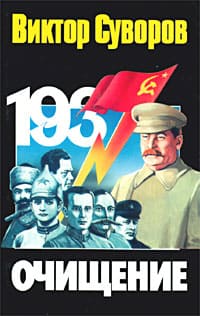 Суворов Виктор
Суворов Виктор Никитин Юрий
Никитин Юрий Панов Вадим
Панов Вадим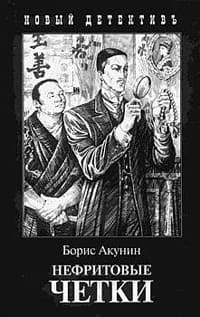 Акунин Борис
Акунин Борис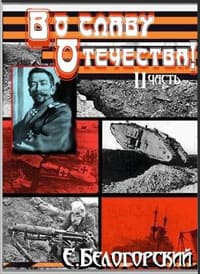 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений