сарафана с рукавчиками, да из одной старомодной ткани, из кримплена. Указкой
же она и учила немецкому языку -- и в ее группе все были отличниками. В
тишине класса она засыпала, но стоило раздаться живому шороху в классе, как
веки ее разлипались и гора плоти приходила в движение. Она изрыгала, как
вулкан: "Ахтунг!" Все смолкало, после чего Раушиха успокаивалась, добрела и
сменяла молившегося у доски ученика. "Битте, битте..." -- наводила она
указку на нового ученика, не вспоминая давно никого по именам. Тот выходил
бочком, чтоб не попасть под действие указки, и, вставая монашком у доски, за
ее величественной массой, начинал читать тот же самый заученный этюд на
немецком или стихотворение. Можно было и соврать, нагородить околесицу из
каркающих слов, главное -- только не запнуться, не замолчать. Этого Раушиха
не переносила. Если кто--то замолкал, она просыпалась и багровела не на
шутку, произнося: "Айн, цвай, драй -- дас коридор зайн!" -- что по--русски
бы звучало: "Выйди вон!"
всерьез в этой болезни, то избавлялась уж от него основательней: шла к Алле
Павловне да заявляла, что такого--то она отказывается учить. Перечить ей
Фейгина не смела, потому что отказ учить хоть одного ученика был в понимании
Катерины Ивановны отказом вообще учить кого бы то ни было, пока из ее класса
не удалят этого заразнобольного, опасного для общего здоровья типа. И тип
этот попадал в группу, где очередная молоденькая учительница как раз
упархивала в декрет, и делался окончательно неучем, потому что группы этих
декретниц принять в свою Катерина Ивановна даже на разок брезговала до
истерики. Сама Катери--на Ивановна за все годы, наверно, ни разу не болела.
Она была такой однообразно--безжизненной, словно, засыпая на уроке, уже
умирала не раз во сне, но возвращалась всякий раз в жизнь, в явь, всплывая
пузырем, надутая только этими "ахтунгами" да "биттами". Когда--то однажды в
своей жизни она побывала туристкой в Германской Демократической Республике,
да и то в одном городе, Дрездене, и величественно просыпалась, стоило вдруг
всплыть при читках учебника его названию, вспоминая и произнося как бы
поощрительно, будто б соглашалась с чтецом: "Дрезден ист гутен штат!" Сама
она по--немецки произносила один и тот же десяток предложений, похожих на
пословицы; по--русски говорила еще ленивей да короче, словно заговаривая на
этом языке, ей тоже приходилось всплывать из нездешнего уютного сна.
под аккомпанемент все той же пластинки, встревая своими голосками. Детские
глуповатые песни выжимали только смешки. Так было в самых младших классах,
когда учили пению. И я помню, что потрясение от услышанного на пластинке, а
потом и от собственного зазвучавшего голоса испытал только однажды, когда
услышал гимн. Уже и слушали его мы только стоя, чего никогда не бывало, и
учитель -- долговязый волнительный мужчина, похожий на смычок,-- тоже стоял
у своего стола, замерев, как на портрете. Сначала несколько мгновений слышно
было из проигрывателя мышиное шебуршание. И стоило грянуть первым же громким
звукам, как свет в классе сразу померк. Волны воинственной музыки хлынули
одна за другой, и я, сам не понимая отчего, стал ощущать и в себе это
возвышенно--воинственное, слыша вполовину понятные слова гимна; да они,
наверно, и ничего не значили. Тяжелая толща музыки колыхала душонку, будто
щепку, а когда толща эта возносила и вдруг падала, то дух захватывало и
вовсе. На следующий урок под курткой школьной, за поясом у меня спрятана
была деревянная шпажка. Не знаю, откуда она у меня вообще оказалась. А
может, это была обструганная деревяшка, которую утащил с урока труда,
заигравшись с ней как со шпажкой.
происходило. Но стоило зазвучать пластинке, как воинственное снова
повелевало душой; особенно в тот раз, когда сжимал гневливо шпажку,
осознавая словно некую жгучую личную тайну, и жест этот свой, скрытый ото
всех, и похожую на орудие убийства деревяшку, которую прятал, скрывал от
глаз учителя сначала только по случайности. Это уже не было игрою в войну.
Вдруг глаза тепло заволакивало влагой. Голос рвался орать, вопить, а не то
что воспеть только заученные слова.
такой восторг, с каким должно и убивать, и умирать во имя чего--то, что выше
человеческих жизней; и сколько раз гимн проигрывался после на уроках,
столько раз казалось мне, что началась война. И слышал я зов, наверно, в
этой музыке, на который откликался почти животно, зов умирать и убивать во
имя чего--то самого главного. Уже куда позднее внушали ко времени, что это
главное -- партия, родина... Но после переживания той тайны обретенный
позднее в словах смысл ничего не рождал в душе возвышенного, такого же
искреннего в своем порыве, да и разумность только угнетала.
человек восемь, повели толпцой в пионерскую комнату, как в баню. И было
такое же настроение, состояние духа, какое бывало именно в банный день в
пионерском лагере: раздеваться вместе со всеми ребятами догола стыдно, но и
отчего--то волнительно; ново и обездоленно держишь в руках своих полотенце
да мыльце; переживаешь, как бы не разглядели в тебе какое уродство, за
которое начнут дразнить; предчувствуешь помывку как испытание, а уж после
бани с ощущением вымытости ходишь до вечера чужой себе, сам не свой, как
подлиза--чистюля.
сидела ровнехонько под кумачовым знаменем нашей дружины и встречала нас
будто учительница, с тем же выражением лица. Пахло сладковато почетными
грамотами, что были прикреплены на стенах; отчего--то они источали именно
сладкий запах, как печенье. В шкафах, за стеклом, будто музейные экспонаты,
покоились пионерские барабаны, в которых распялен был таинственный
пергамент, так казалось, весь процарапанный, в темных разводах,
завораживающий глаз. Точно так глаз завораживали и молчащие пионерские
горны. И было чувство -- любопытство, смешанное с завистью к тем, кто уж
постучал и подудел,-- что, когда станешь пионером, вручат тебе такой вот
горн или даже барабан.
альбом об одном из пионеров--героев. Пионерская клятва давно поджидала
будущего пионера на задней обложке ученической тетради, и я уже помнил ее
наизусть. Пионерский галстук обошел меня ранее только по болезни. Чтоб
обладать им, вступил я тогда в соревнование, почти по--спортивному
страстное, очутился в отличниках, поднадорвался -- заболел. А не повязав его
в числе первых, с год удрученно жевал в памяти эту клятву пионера, помнил ее
как обиду на несправедливость; тогда вступить было отличием среди других, а
теперь вступление стало уделом отстающих, кто плелся в хвосте класса по
успеваемости и поведению. Через год галстук не казался украшением и смерял
неуютно гордыню. Но волнение явилось снова, потому что верить цинично, что
примут каждого, никто даже из отстающих не смел.
пионервожатая начала распределять меж нас в тишине темы пионеров--героев.
Она достала стопу уже готовых альбомов, изданных в виде книжек, наподобие
детских: больших, мягких, где главное всегда -- это картинки, и обратилась
вдруг с вопросом, а есть ли у кого--то из нас уже свой любимый герой и,
может, кто--то сам ей скажет, о ком бы хотел делать альбом. Все оживились и
начали подобострастно, перекрикивая друг дружку, вымаливать у нее одного и
того же героя -- Павлика Морозова. Вожатая растерялась и скоренько
прекратила шум. В мою очередь она протянула книжицу (вынимая ее из стопы так
особенно, словно гадала судьбу) с портретом то ли грустно, то ли обреченно
глядящего мальчика с автоматом в руках и партизанском тулупчике -- Лени
Голикова... Мне стало так тоскливо, будто снова заболел и лишился
пионерского галстука,-- этот мальчик не нравился, было даже стыдновато, что
достался мне какой--то там "Леня", и я не видел в его внешности ничего
геройского, а только что--то деревенское, о нем вот ничего и не слыхать,
какой же он герой!
казалось даже просящим) и будто просил: ну возьми меня, видишь, какой у меня
автомат красивый, какой я сам никому не нужный, возьми и не пожалеешь, не
сомневайся, в пионеры я тебя проведу. Мне казалось именно так, что я взял
его из жалости, потому как никто его не хотел брать, чтоб делать альбом.
Теперь мне предстояло все узнать о его жизни да разукрасить ее с любовью,
будто яичко к Христову дню.
Его не мучили, как других пионеров, он погиб мгновенно от пули, но
отсутствие геройских мучений как раз делало его смерть какой--то грустной,
безутешной. Леня Голиков погиб на месте, и чудилось, это просто смерть
впилась в него, как в отбившуюся от стада легкую добычу. Он должен был
погибнуть, потому что в чем--то был слабее других. Глаза его теперь мерцали
мне с портрета, будто я глядел на них из темноты. Все уж выучил наизусть,
вдруг ясно понимая, что должен выучить наизусть чужую смерть и что рассказ
мой будет только о смерти. Я купил в магазине самый добротный альбом из
уважения к этой смерти; мне и не пришло в голову выгадать на цене именно
из--за уважения к этому мальчику. Я украшал свой альбом так, будто впервые в
жизни делал могилку. Все шло в ход. И цветная бумага, и даже елочный
"дождик". Где--то я достал точно такой же портрет, вырезал его и вот
поместил в своем альбоме как бы в утешающую красоту. Именно за красивость
получил я замечание от вожатой, когда сдал альбом. Но о подвиге Голикова
рассказал плача, так что даже пришлось ей меня в конце концов утешать,
чувствуя, верно, свою вину.
долго не казались мне просто словами, только гордости я не почувствовал,
когда повязали галстук, и клятву произносил фальшиво: там, где клялся не
пожалеть жизни, вдруг чувствовал, что вру. Именно жизни своей мне и стало
жалко, и тому будто и научил меня Леня Голиков, когда я бредил им много




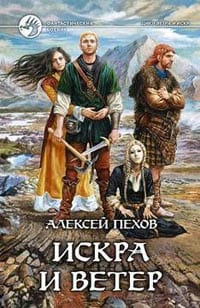
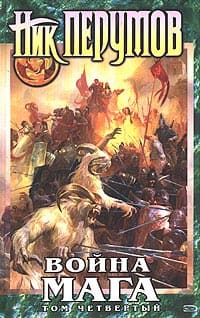
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Максимов Альберт
Максимов Альберт Якубенко Николай
Якубенко Николай Лукин Евгений
Лукин Евгений Березин Федор
Березин Федор Лукин Евгений
Лукин Евгений