Смуглая переменила Сербинова на Кирея.
— Ты — женщина ничего, — сказал ей Кирей. — Я тебе что хочешь подарю! Когда твой теплый комок родится, то уж он не остынет.
Прокофий взял под руку Клавдюшу.
— Ну, а мы что будем делать, гражданка Клобзд?
— Что ж, Прош, наше дело сознательное…
— И то, — определил Прокофий. Он поднял кусок скучной глины и бросил его куда-то в одиночество. — Чего-то мне все время серьезно на душе — не то пора семейство организовать, не то коммунизм перетерпеть… Ты сколько мне фонда накопила?
— Да сколько ж? Что теперь ходила продала, то и выручила, Прош: за две шубы да за серебро только цену дали, а остальное вскользь прошло.
— Ну пускай: вечером ты мне отчет дашь, я хоть тебе и верю, а волнуюсь. А деньги так у тетки и содержишь?
— Да то где ж, Прош? Там им верное место. А когда ж ты меня в губернию повезешь? Обещал еще центр показать, а сам опять меня в это мещанство привел. Что я тут — одна среди нищенок, не с кем нового платья попытать! А показываться кому? Разве это уездное общество? Это прохожане на постое. С кем ты меня мучаешь?
Прокофий вздохнул: что ты будешь делать с такой особой, если у нее ум хуже женской прелести?
— Ступай, Клавдюша, обеспечивай пришлых баб, а я подумаю: один ум хорошо, а второй лишний.
Большевики и прочие уже разошлись с прежнего места, они снова начали трудиться над изделиями для тех товарищей, которых они чувствовали своей идеей. Один Копенкин не стал нынче работать, он угрюмо вычистил и обласкал коня, а потом смазал оружие гусиным салом из своего неприкосновенного запаса. После того он отыскал Пашинцева, шлифовавшего камни.
— Вась, — сказал Копенкин. — Чего ж ты сидишь и тратишься: ведь бабы пришли. Семен Сербов еще прежде них саки и вояжи вез в Чевенгур. Чего ж ты живешь и забываешь? Ведь буржуазия неминуемо грянет, где ж твои бомбы, товарищ Пашинцев? Где ж твоя революция ее сохранный заповедник?
Пашинцев выдернул из ущербленного глаза засохшую дрянь и посредством силы ногтя запустил ее в плетень.
— То я чую, Степан, и тебя приветствую! Оттого и гроблю в камень свою силу, что иначе тоскую и плачу в лопухи!.. Где ж это Пиюся, где ж его музыка висит на гвозде!
Пиюся собирал щавель по задним местам бывших дворов.
— Тебе опять звуков захотелось? — спросил он из-за сарая. — Без геройства соскучился?
— Пиюсь, сыграй нам с Копенкиным «Яблоко», дай нам настроение жизни!
— Ну жди, сейчас дам.
Пиюся принес хроматический инструмент и с серьезным лицом профессионального артиста сыграл двум товарищам «Яблоко». Копенкин и Пашинцев взволнованно плакали, а Пиюся молча работал перед ними — сейчас он не жил, а трудился.
— Стой, не расстраивай меня! — попросил Пашинцев. — Дай мне унылости.
— Даю, — согласился Пиюся и заиграл протяжную мелодию.
Пашинцев обсох лицом, вслушался в заунывные звуки и вскоре сам запел вслед музыке:
Ах, мой товарищ боевой,
Езжай вперед и песню пой,
Давно пора нам смерть встречать —
Ведь стыдно жить и грустно умирать…
Ах, мой товарищ, подтянись,
Две матери нам обещали жизнь,
Но мать сказала мне: постой,
Вперед врага в могиле упокой,
А сверху сам ложись…
— Будет тебе хрипеть, — окоротил певца Копенкин, сидевший без деятельности, — тебе бабы не досталось, так ты песней ее хочешь окружить. Вон одна ведьма сюда поспешает.
Подошла будущая жена Кирея — смуглая, как дочь печенега.
— Тебе чего? — спросил ее Копенкин.
— А так, ничего. Слушать хочу, у меня сердце от музыки болит.
— Тьфу ты, гадина! — И Копенкин встал с места для ухода.
Здесь явился Кирей, чтоб увести супругу обратно.
— Куда ты, Груша убегаешь? Я тебе проса нарвал, идем зерна толочь — вечером блины будем кушать, мне что-то мучного захотелось.
И они пошли вдвоем в тот чулан, где раньше Кирей лишь иногда ночевал, а теперь надолго приготовил приют для Груши и себя.
Копенкин же направился вдоль Чевенгура — он захотел глянуть в открытую степь, куда уже давно не выезжал, незаметно привыкнув к тесной суете Чевенгура. Пролетарская Сила, покоившаяся в глуши одного амбара, услышала шаги Копенкина и заржала на друга тоскующей пастью. Копенкин взял ее с собой, и лошадь начала подпрыгивать рядом с ним от предчувствия степной езды. На околице Копенкин вскочил на коня, выхватил саблю, прокричал своей отмолчавшейся грудью негодующий возглас и поскакал в осеннюю тишину степи гулко, как по граниту. Лишь один Пашинцев видел разбег по степи Пролетарской Силы и ее исчезновение со всадником в отдаленной мгле, похожей на зарождающуюся ночь. Пашинцев только что залез на крышу, откуда он любил наблюдать пустоту полевого пространства и течение воздуха над ним. «Он теперь не вернется, — думал Пашинцев. — Пора и мне завоевать Чевенгур, чтоб Копенкину это понравилось».
Через три дня Копенкин возвратился, он въехал в город шагом на похудевшей лошади и сам дремал на ней.
— Берегите Чевенгур, — сказал он Дванову и двоим прочим, что стояли на его дороге, — дайте коню травы, а поить я сам встану. — И Копенкин, освободив лошадь, уснул на протоптанном, босом месте. Дванов повел лошадь в травостой, думая над устройством дешевой пролетарской пушки для сбережения Чевенгура. Травостой был тут же, Дванов отпустил Пролетарскую Силу, а сам остановился в гуще бурьяна; сейчас он ни о чем не думал, и старый сторож его ума хранил покой своего сокровища — он мог впустить лишь одного посетителя, одну бродящую где-то наружи мысль. Наружи ее не было: простиралась пустая, глохнущая земля, и тающее солнце работало на небе как скучный искусственный предмет, а люди в Чевенгуре думали не о пушке, а друг о друге. Тогда сторож открыл заднюю дверь воспоминаний, и Дванов снова почувствовал в голове теплоту сознания; ночью он идет в деревню мальчиком, отец его ведет за руку, а Саша закрывает глаза, спит и просыпается на ходу. «Чего ты, Саш, ослаб так от долготы дня? Иди тогда на руки, спи на плече», — и отец берет его наверх, на свое тело, и Саша засыпает близ горла отца. Отец несет в деревню рыбу на продажу, из его сумы с подлещиками пахнет сыростью и травой. В конце того дня прошел ливень, на дороге тяжелая грязь, холод и вода. Вдруг Саша просыпается и кричит — по его маленькому лицу лезет тяжелый холод, а отец ругается на обогнавшего их мужика на кованой телеге, обдавшего отца и сына грязью с колес. «Отчего, пап, грязь дерется с колеса?» — «Колесо, Саш, крутится, а грязь беспокоится и мчится с него своим весом».
— Нужно колесо, — вслух определил Дванов. — Кованый деревянный диск, с него можно швырять в противника кирпичи, камни, мусор, — снарядов у нас нет. А вертеть будем конным приводом и помогать руками, — даже пыль можно отправлять и песок… Гопнер сейчас сидит на плотине, опять, наверно, там есть просос…
— Я вас побеспокоил? — спросил медленно подошедший Сербинов.
— Нет, а что? Я собой не занимался.
Сербинов докуривал последнюю папиросу из московского запаса и боялся, что дальше будет курить.
— Вы ведь знали Софью Александровну?
— Знал, — ответил Дванов, — а вы тоже ее знали?
— Тоже знал.
Спавший близ пешеходной дороги Копенкин привстал на руках, кратко крикнул в бреду и опять засопел во сне, шевеля воздухом из носа умершие подножные былинки.
Дванов посмотрел на Копенкина и успокоился, что он спит.
— Я ее помнил до Чевенгура, а здесь забыл, — сказал Александр. — Где она живет теперь и отчего вам сказала про меня?
— Она в Москве и там на фабрике. Вас она помнит — у вас в Чевенгуре люди друг для друга как идеи, я заметил, и вы для нее идея; от вас до нее все еще идет душевный покой, вы для нее действующая теплота…
— Вы не совсем правильно нас поняли. Хотя я все равно рад, что она жива, я тоже буду думать о ней.
— Думайте. По-вашему, это ведь много значит — думать, это иметь или любить… О ней стоит думать, она сейчас одна и смотрит на Москву. Там теперь звонят трамваи и людей очень много, но не каждый хочет их приобретать.
Дванов никогда не видел Москвы, поэтому из нее он вообразил только одну Софью Александровну. И его сердце наполнилось стыдом и вязкой тягостью воспоминания: когда-то на него от Сони исходила теплота жизни и он мог бы заключить себя до смерти в тесноту одного человека и лишь теперь понимал ту свою несбывшуюся страшную жизнь, в которой он остался бы навсегда, как в обвалившемся доме. Мимо с ветром промчался воробей и сел на плетень, воскликнув от ужаса. Копенкин приподнял голову и, оглядев белыми глазами позабытый мир, искренне заплакал; руки его немощно опирались в пыль и держали слабое от сонного волнения туловище. «Саша мой, Саша! Что ж ты никогда не сказал мне, что она мучается в могиле и рана ее болит? Чего ж я живу здесь и бросил ее одну в могильное мучение!..» Копенкин произнес слова с плачем жалобы на обиду, с нестерпимостью ревущего внутри его тела горя. Косматый, пожилой и рыдающий, он попробовал вскочить на ноги, чтобы помчаться. «Где мой конь, гады? Где моя Пролетарская Сила? Вы отравили ее в своем сарае, вы обманули меня коммунизмом, я помру от вас». И Копенкин повалился обратно, возвратившись в сон.
Сербинов поглядел вдаль, где за тысячу верст была Москва, и там в могильном сиротстве лежала его мать и страдала в земле. Дванов подошел к Копенкину, положил голову спящего на шапку и заметил его полуоткрытые, бегающие в сновидении глаза. «Зачем ты упрекаешь? — прошептал Александр. — А разве мой отец не мучается в озере а дне и не ждет меня? Я тоже помню».
Пролетарская Сила перестала кушать траву и осторожно пробралась к Копенкину, не топая ногами. Лошадь наклонила голову к лицу Копенкина и понюхала дыханье человека, потом она потрогала языком его неплотно прикрытые веки, и Копенкин, успокаиваясь, полностью закрыл глаза и замер в продолжающемся сне. Дванов привязал лошадь к плетню, близ Копенкина, и отправился вместе с Сербиновым на плотину к Гопнеру. У Сербинова уже не болел живот, он забывал, что Чевенгур есть чужое место его недельной командировки, его тело привыкло к запаху этого города и разреженному воздуху степи. У одной окраинной хаты стоял на земле глиняный памятник Прокофию, накрытый лопухом от дождей; в недавнее время о Прокофии думал Чепурный, а потом сделал ему памятник, которым вполне удовлетворил и закончил свое чувство к Прокофию. Теперь Чепурный заскучал о Карчуке, ушедшем с письмами Сербинова, и подготовлял матерьял для глиняного монумента скрывшемуся товарищу.
Памятник Прокофию был похож слабо, но зато он сразу напоминал и Прокофия и Чепурного одинаково хорошо. С воодушевленной нежностью и грубостью неумелого труда автор слепил свой памятник избранному дорогому товарищу, и памятник вышел как сожительство, открыв честность искусства Чепурного.
Сербинов не знал стоимости другого искусства, он был глуп в московских разговорах среди общества, потому что сидел и наслаждался видом людей, не понимая и не слушая, что они говорят. Он остановился перед памятником, и Дванов вместе с ним.
— Его бы надо сделать из камня, а не глины, — сказал Сербинов, — иначе он растает от времени и погоды. Это ведь не искусство, это конец всемирной дореволюционной халтуре труда и искусства; в первый раз вижу вещь без лжи и эксплуатации.
Дванов ничего не сказал, он не знал, как иначе может быть. И они оба пошли в речную долину.
Гопнер плотиной не занимался, он сидел на берегу и делал из мелкого дерева оконную зимнюю раму для Якова Титыча. Тот боялся остудить зимой двух своих женщин — дочерей. Дванов и Сербинов подождали, пока Гопнер доделает раму, чтобы всем вместе начать строить деревянный диск для метания камня и кирпича в противника Чевенгура. Дванов сидел и слышал, что в городе стало тише. Кто получил себе мать или дочь, тот редко выходил из жилища и старался трудиться под одной крышей с родственницей, заготовляя неизвестные вещи. Неужели они в домах счастливей, чем на воздухе?
Дванов не мог этого знать и от грусти неизвестности сделал лишнее движение. Он встал на ноги, сообразил и пошел искать матерьял для устройства стреляющего диска. До вечера он ходил среди уюта сараев и задних мест Чевенгура. В этом закоснении, в глуши малых полынных лесов тоже можно было бы как-то беззаветно существовать в терпеливой заброшенности, на пользу дальним людям. Дванов находил различные мертвые вещи вроде опорок, деревянных ящиков из-под дегтя, воробьев-покойников и еще кое-что. Дванов поднимал эти предметы, выражал сожаление их гибели и забвенности и снова возвращал на прежние места, чтобы все было цело в Чевенгуре до лучшего дня искупления в коммунизме. В гуще лебеды Дванов залез во что-то ногой и еле вырвался — он попал между спиц забытого с самой войны пушечного колеса. Оно по диаметру и прочности вполне подходило для изготовления из него метательной машины. Но катить его было трудно, колесо имело тяжесть больше веса Дванова, и Александр призвал на помощь Прокофия, гулявшего среди свежего воздуха с Клавдюшей. Колесо они доставили в кузницу, где Гопнер ощупал устройство колеса, одобрил его и остался ночевать в кузнице, близ того же колеса, чтобы на покое обдумать всю работу.
Прокофий избрал себе жилищем кирпичный большевистский дом, где прежде все жили и ночевали, не расставаясь. Теперь там был порядок, женское Клавдюшино убранство, и уже топилась через день печка для сухости воздуха. На потолке жили мухи, комнату окружали прочные стены, хранившие семейную тишину Прокофия, и пол был вымыт, как под воскресенье. Прокофий любил отдыхать на кровати и видеть пешее движение мух по теплому потолку, так же бродили мухи в его деревенском детстве по потолку хаты отца и матери, и он лежал, успокаивался и придумывал идеи добычи средств для дальнейшей жизни и скрепления своего семейства. Нынче он привел Дванова, чтобы попоить его чаем с вареньем и покормить Клавдюшиными пышками.
— Видишь, Саш, муж на потолке, — указал Прокофий. — В нашей хате тоже жили мухи, ты помнишь или уже упустил из виду?
— Помню, — ответил Александр. — Я помню еще больше птиц на небе, они летали по небу, как мухи под потолком, и теперь они летают над Чевенгуром, как над комнатой.
— Ну да: ты ведь жил на озере, а не в хате, кроме неба тебе не было покрытия, тебе птица вроде родной мухи была.
После чая Прокофий и Клавдюша легли в постель, угрелись и стихли, а Дванов спал на деревянном диване. Утром Александр показал Прокофию птиц над Чевенгуром, летавших в низком воздухе. Прокофий их заметил, они походили на быстроходных мух в утренней горнице природы; невдалеке шел Чепурный, босой и в шинели на голое тело, как отец Прокофия пришел с империалистической войны. Изредка дымились печные трубы, и оттуда пахло тем же, чем у матери в хате, когда она готовила утреннюю еду.
— Надо б, Саш, корм коммунизму на зиму готовить, — озаботился Прокофий.
— Это надо бы, Прош, начать делать, — согласился Дванов. — Только ведь ты одному себе варенье привез, а Копенкин годами одну холодную воду пьет.
— Как же себе? А тебя я угощал вчера, иль ты мало в стакан клал, не раскушал? Хочешь, я тебе сейчас в ложке принесу?
Дванов варенья не захотел, он спешил найти Копенкина, чтобы быть с ним в его грустное время.
— Саша! — крикнул Прокофий вслед. — Ты погляди на воробьев, они мечутся в этой среде, как тучные мухи!
Дванов не услышал, и Прокофий возвратился в комнату своего семейства, где летали мухи, а в окно он видел птиц над Чевенгуром. «Все едино, — решил он про мух и птиц. — Съезжу в буржуазию на пролетке, привезу две бочки варенья на весь коммунизм, пускай прочие чаю напьются и полежат под птичьим небом, как в горнице».
Оглядев еще раз небеса, Прокофий сосчитал, что небо покрывает более громадное имущество, чем потолок, весь Чевенгур стоял под небом как мебель одной горницы в семействе прочих. И вдруг — прочие стронутся в свой путь, Чепурный умрет, а Чевенгур достанется Сашке? Здесь Прокофий заметил, что он прогадал, ему надо теперь же признать Чевенгур семейной горницей, чтобы стать в ней старшим братом и наследником всей мебели под чистым небом. Даже если осмотреть одних воробьев, и то они жирнее мух и их в Чевенгуре гуще. Прокофий оценочным взором обследовал свою квартиру и решил променять ее для выгоды на город.
— Клавдюш, а Клавдюш! — крикнул он жену. — Чего-то мне захотелось тебе нашу мебель подарить!
— А чего ж! Подари, — сказала Клавдюша. — Я ее, пока грязи нет, к тетке бы свезла!


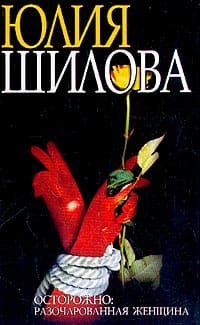



 Шилова Юлия
Шилова Юлия Дальский Алекс
Дальский Алекс Гуревич Георгий
Гуревич Георгий Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Никитин Юрий
Никитин Юрий Громыко Ольга
Громыко Ольга