чьей третьей родиной стала Бразилия, воспоминания которою -- "Два
полустанка" -- впервые вышли на русском языке в 1987 году в Амстердаме.
русских, существовало несколько литературных объединений (наподобие "Цеха
полов" -- одно из объединений так и называлось), главным среди них была
"Чураевка" (получившая имя от Чураевых, героев одноименной эпопеи сибирского
писателя Г. Гребенщикова), основанная молодым казачьим офицером, поэтом
Алексеем Ачаиром. Входил в "Чураевку" и Перелешин. Вот что он пишет: "На
Дальнем Востоке "парижская нота" часто вызывала восхищение. Стихи Георгия
Иванова, Ходасевича, Ладинского, Цветаевой, Эйснера, Адамовича, Смоленского,
Довида Кнута и других парижан воспринимались живо и радостно". И далее:
"После собраний поэты часто забирались в ближайший подвальчик Шатровой.
Денег ни у кою не водилось. (На восемь человек заказывали два огурца, под
которые пилось много водки. Много водки было выпито под "Синеватое облако",
им мы все просто бредили. Нам казалось тогда, что все пишут в одном тоне (и
как прекрасно!), что Ладинский в отличных отношениях с Цветаевой, Адамович
запросто бывает у Ходасевича, Поплавский на "ты" с Георгием Ивановым и что
"телесная" Екатерина Бакунина* кормит пельменями Эйснера и обожаемого (нами)
Анатолия Штейгера.
и еще облака...
всего лишь огурца под водку, все же очень любопытно отметить, что
заброшенные в Маньчжурию товарищи по несчастью, ровесники парижскою
"незамеченного поколения", воспринимали парижан как "единую группу".
Перелешин над подобным подходом справедливо иронизирует. Современный
литературовед М. Шаповалов пишет вполне серьезно: "На чужбине с Георгием
Ивановым произошло очищение страданием. Он понял, чего лишился, и стихи его
являют собой характерные примеры "поэзии парижской ноты"*. Перед нами тот
самый географический казус, из коего проистекает искажение истины.
ноту", кто нет? Как-то принято считать, что "парижская нота" выросла из
традиционной петербургской поэтики в том ее узком истолковании, какое давал
ей в Париже почти единственный бесспорный представитель "ноты", ее
несомненный идеолог -- Георгий Адамович. "Нота" группировалась вокруг
Адамовича сперва в "Звене", позже -- в "Последних новостях": именно там
статьи Адамовича создали некую "ноту". Нигде и никто, впрочем, никогда не
формулировал -- что же она такое, эта "нота". Кроме... злейшего врага,
Владимира Набокова (тогда еще -- Сирина), в романе которого "Дар" Адамович
фигурирует под псевдонимом "Христофор Мортус". Вот что пишет у Набокова
Мортус о назначении литературы и поэзии, о ее роли в жизни: "Один пишет
лучше, другой хуже, и всякого в конце пути поджидает Тема, которой "не
избежит никто". <...> Наша литература,-- я говорю о настоящей,
"несомненной" литературе,-- люди с безошибочным вкусом меня поймут,--
сделалась проще, суше,-- за счет искусства, может быть, но зато (в некоторых
стихах Цицовича, Бориса Барского, в прозе Коридонова...) зазвучала такой
печалью, такой музыкой, таким "безнадежным небесным очарованием", что,
право, не стоит жалеть о "скучных песнях земли"*.
последователей -- с убийственной точностью, тем более что за именами
Цицовича и Бориса Барского немедленно просматривались подлинные Борис
Закович и барон Штейгер. Но по крайней мере три парижские школы -- и целый
ряд поэтов, стоявших вне всяких "школ",-- никак к этой самой "ноте" с ее
"безнадежным небесным очарованием" не приближались на выстрел. Это были
прежде всего участники литературного объединения "Перекресток", пламенные
сторонники главного оппонента Адамовича -- В. Ходасевича: Ю. Мандельштам, И.
Голенищев-Кутузов, Г. Раевский. Во-вторых, члены объединения "Кочевье" (его
участники, в частности Марина Цветаева, и вправду "перекочевали" в Париж из
Праги). В-третьих, малочисленная, но очень яркая группа "формистов" -- А.
Присманова, А. Эйснер, В. Корвин-Пиотровский. Может быть, и зачисляли себя
на какое-то время в "ноту", но никак не укладывались в нее своими мощными
дарованиями Борис Поплавский и Довид Кнут.
талантливый) ученик -- Анатолий Штейгер. В послевоенные годы на какое-то
время, несомненно, примкнул к "ноте" выходец из Риги Игорь Чиннов, позднее
полностью сменивший поэтику и ставший одним из самых значительных русских
поэтов США. Прочие имена -- третьего, четвертого, десятого рядов. И уж никак
не укладывается в подобную поэтическую программу поэзия Георгия Иванова,
даже в "Розах", не говоря о позднем творчестве,-- хотя сторонники "ноты" еще
недавно твердили, что именно от Иванова у "ноты" весь блеск, весь колорит.
пронизано не только приметами времени, но и откликами на политические
события, что в рамках "ноты" было немыслимо. Да и одного присущего Иванову
чувства юмора хватило бы, чтобы "нота" его не вместила. Видимо, сам Иванов
некое влияние на "ноту" оказывал, она на него -- ни малейшего, а
послевоенный Иванов-нигилист стал ей открыто враждебен. В письме от 29 июля
1955 года Иванов писал Р. Гулю: "Как Вы теперь мой критик и судья, перед
которым я, естественно, трепещу, в двух словах объясню, почему я шлю (и
пишу) в "остроумном", как Вы выразились, роде. Видите ли, "музыка"
становится все более невозможной. Я ли ею не пользовался, и подчас хорошо.
"Аппарат" при мне -- за десять тысяч франков берусь в неделю написать точно
такие же "розы"*. Сам Гуль в предисловии к книге Г. Иванова "1943-- 1958.
Стихи", вышедшей через несколько месяцев после смерти поэта, привел эту
цитату в искаженном виде: он выпустил слова "за десять тысяч франков" и
"розы" превратил в "Розы", т. е. в название сборника четвертьвековой
давности,-- и в итоге ирония над всеми "розами, которые в мире цвели"
перешла к одной всего лишь, пусть самой нашумевшей, книге Иванова. А что
касается суммы в десять тысяч франков, то франки были "старые",
дореформенные: на содержание, т. е. только на еду для престарелых
"апатридов", нещедрое французское правительство выделило 800 франков в день
-- иначе говоря, за сущие гроши брался Георгий Иванов написать еще одну
книгу старых своих стихотворений. Впрочем, Р. Гулю в упомянутом предисловии
-- интересном и теперь на фоне прочих писаний о поэзии Г. Иванова --
принадлежат две веские формулы, определяющие позднее творчество поэта. Р.
Гуль первым распознал в Иванове экзистенциалиста. "Русский экзистенциализм
Г. Иванова много старше сен-жерменского экзистенциализма Сартра"*. И так
отозвался о поздней поэзии Г. Иванова: "Васька Розанов в стихах"*. Именно в
протоэкзистенциализме Розанова с его монументализацией куска "не то пирога,
не то творога"* до космических масштабов берут начало и ивановская
"вертебральная колонна", и телега, "скрипящая в трансцендентальном плане",--
парадоксальные и пугающие сокровища поэзии позднего Г. Иванова.
Иванова оспаривали другие. Цветаева и Ходасевич. Но Цветаевой и Ходасевича
нет, Иванов еще остается у нас"*,-- писал Р. Гуль, мечтая о времени, когда
"небольшие книжки Георгия Иванова" вернутся в Россию. Но, как видит
читатель, из небольших книжек складывается несколько больших.
весьма сложную эволюцию.
раздружившийся еще быстрей с "послом Арлекинии" Игорем Северяниным,-- до
середины двадцатых годов он оставался акмеистом "без примесей", участником и
первого и второю "Цеха поэтов".
составились "Розы", первый раздел "Отплытия на остров Цитеру" 1937 года, и
отчасти не вошедшие ни в какой из прижизненных сборников,-- уже далеко не
просто акмеистические по канонам произведения; если раньше поэт оперировал
скрытыми цитатами, то теперь он перешел к демонстративным центонам, а по
духу стал неизмеримо трагичней:
из самых популярных романсов русской эстрады -- принадлежат совсем не Блоку,
а А. Кусикову. Вряд ли сам Г. Иванов помнил, чьи именно это стихи. Но он
видел в них символ той огромной и заснеженной России, в которой остался
Блок. И тут "черная музыка Блока" звучит без малейшей фальши, высоко
поднимаясь над кусиковским романсом.
немного, но акмеист, розы для него еще цветут, и соловьи тоже поют, но с
каждым годом все горше отчаяние, все выше отметки, оставляемые паводком боли
(отнюдь не только ностальгической) в душе поэта. В конце этого периода
рождается "Распад атома", сплав стихов и прозы, грубого даже для нынешнего
слуха эпатажа и нежной любовной лирики,-- но в каком-то смысле и "театр для
себя": Георгий Иванов создает героя, для которого искусство уже невозможно,
а возможно разве что самоубийство (как герой "Записок сумасшедшего" не
Гоголь, так и герой "Распада атома" -- не Иванов). А для самого Иванова
невозможно прежнее искусство -- и он умолкает почти на десятилетие.
читателям на страницах альманаха "Орион" (Париж, 1947), имел очень мало
общего с прежним Ивановым. Если прежде поэт цитировал кого попало, то теперь
более всех он цитирует самою себя (прежнего), нередко издеваясь над собою и
пародируя себя:
что он выбросит ее в помойное ведро (игравшее такую важную роль в "Распаде
атома"). Верблюды теперь напевают в ею стихах лягушачье бре-ке-ке, камбала,
"повинуясь рифмы произволу", раздевается догола и любуется в зеркала,




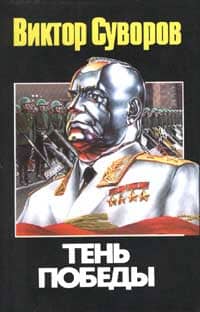

 Василенко Иван
Василенко Иван Березин Федор
Березин Федор Лукин Евгений
Лукин Евгений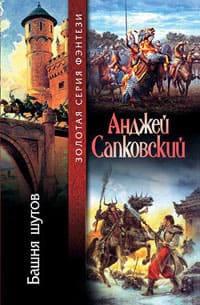 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Контровский Владимир
Контровский Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия