бумажки. Вообще какое дело государству до союза душ? Да и до союза тел?
неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится,
какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Вот -- Попов,
изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громкоговорящую
пытку для мыслящих одиночек? Или немцы: пропускали Ленина для развала
России, а получили через тридцать лет раскол Германии? Или Аляска. Казалось,
такая оплошность, что продали её за бесценок, -- но теперь советские танки
не могут идти по сухопутью в Америку! И ничтожный факт решает судьбу
планеты.
сама не заметит, как выйдет замуж.
сжалось, что именно так прощаются навсегда...
который ещё распирал его в автобусе, постепенно отлил, теснимый
трезво-мрачными соображениями. Но тем самым уравновесились его мысли, и
опять он стал входить в свою обычную арестантскую шкуру.
Нержин уже признал их для себя своеродными, необходимыми для его жизни.
ею?
оберегла его железная предуказанная единственная тропа тюрьмы!
он, севши в тюрьму? Ну, нельзя бродить с ящиком красок по Подмосковью. Ну,
нельзя собирать натюрморты на столе. Выставки? Так он не умел себе их
[устраивать], и за полсотни лет ни единой картины не выставил в хорошем
зале. Деньги за картины? Он не получал их и там. Дружелюбных зрителей? Но
здесь он их собирает как бы не больше. Мастерскую? Но даже вот такой
холодной лестничной площадки у него на воле не было. И жильё его, и
мастерская была там -- узкая длинная комната, похожая на коридор. Чтобы
развернуться с работой, он ставил стулья на стулья, а матрас закатывал, и
посетители спрашивали: "Вы переезжаете?" Стол был у них единственный, и
когда на нём разворачивался натюрморт -- до окончания картины они с женой
обедали на стульях.
разводил на нём. За карточки надо было служить, его послали в химический
дивизион рисовать портреты отличниц боевой и политической подготовки.
Заказано было десять таких портретов, но из десяти отличниц он выбрал одну и
изводил её долгими сеансами. Однако, рисовал её совсем не так, как надо было
командованию -- и никто потом не хотел брать этого портрета, названного:
"Москва, сорок первый год".
противоипритном костюме. Медно-рыжие буйные волосы её выбрасывались во все
стороны из-под пилотки и взволнованным контуром охватывали голову. Голова
была вскинута, безумные глаза видели перед собой что-то ужасное, непрощаемое
что-то. Но не расслаблена по-девически была фигура! Готовые к борьбе руки
держались за ремень противогаза, а противоипритный черно-серый костюм
ломался острыми жёсткими складками, серебристой полосой отсвечивал на
переломленной плоскости -- и виделся как латы рыцарских времён. Благородное,
жестокое и мстительное сошлось и врезалось на лице этой решительной
калужской комсомолки, вовсе не красивой, в которой Кондрашёв-Иванов увидел
Орлеанскую Деву!
переходило за край, показывало что-то уже не управляемое -- и картины
испугались, не взяли, не выставили ни разу нигде, она годы стояла в
комнатёнке художника, отвёрнутая к стене, и так достоялась до самого дня
ареста.
послушать его. Литературный четверг в стиле девятнадцатого века... Этот
роман обошёлся каждому слушателю в двадцать пять лет исправительно-трудовых
лагерей. Слушателем крамольного романа был и Кондрашёв-Иванов, правнук
декабриста Кондрашёва, приговорённого за восстание к двадцати годам и
отмеченного трогательным приездом к нему в Сибирь полюбившей его
гувернантки-француженки.
расписался за приговор ОСО, привезен был в Марфино и поставлен писать
картины по одной в месяц, как установил для него Фома Гурьянович. Двенадцать
месяцев минувшего года Кондрашёв писал развешенные сейчас здесь и уже
увезенные картины. И что ж? Имея за спиной пятьдесят лет, а впереди двадцать
пять, он не жил, а летел этот безбурный тюремный год, не зная, выпадет ли
ещё второй такой. Он не замечал, чем его кормили, во что одевали, когда
пересчитывали его голову в числе других.
смотреть картины других. И по альбомам репродукций, просочившимся через
таможню, узнавать, как там и куда растёт западная живопись.
работе Кондрашёва-Иванова, потому что в магическом пятиугольнике, где всё
открывалось и создавалось, все пять вершин были заняты раз и навсегда: две
вершины -- рисунок и цвет, как мог увидеть только он, две вершины -- мировое
Добро и мировое Зло, а пятая -- сам художник.
и не мог руками воссоставить те натюрморты, но ко всем к ним и особенно к
истинным их цветам он прозрел в камерах, полутёмных от намордников, -- и
теперь по памяти писал ненаписанные прежде натюрморты и пейзажи.
(Кондрашёв первейшее значение придавал соотношению сторон) и сейчас висел
рядом с окном Мамурина. В половину его площади тут располагался стоймя,
ребром -- ярко-начищенный круглый медный поднос. Это был простой поднос, но
воспринимался он как доблестно горящий щит! И стоял рядом
темно-металлический кувшин, в мелких углубинах воронёный -- не для вина,
скорей для свежей воды. А ещё по задней стене спадала жёлто-золотая парча
(всеми оттенками жёлтого особенно увлекался сейчас Кондрашёв) и
воспринималась как накидка Невидимого. Что-то было в сочетании этих трёх
предметов, что передавало дух мужества и призывало не отступать.
плашмя и на него положить хотя бы разрезанный арбуз.)
вновь. Ни одну из них он не довёл до той ступени, которая даёт мастеру
ощущение совершенства. Он даже не знал точно, существует ли такая ступень.
Он оставлял их тогда, когда уже переставал различать в них что-либо, когда
примелькивался его глаз. Он оставлял их тогда, когда с каждым возвратом всё
меньшими и меньшими крохами был способен их улучшить и даже замечал, что
портит, а не исправляет.
отделялись, отдалялись, -- а когда он снова свеже взглядывал на них,
безнаградно и навсегда отдавая их висеть среди чванной роскоши, --
прощальный восторг пробивал художника. Пусть никто их не увидит больше, но
всё-таки он их написал!
картину Кондрашёва.
было понять: он не тёк вовсе, его поверхность была готова взяться ледком.
Где помельче, в ручье угадывался коричневый оттенок -- это был отсвет палых
листьев, устлавших дно. Первый снег лежал пятнами на обоих бережках, а в
вытаинах между ними торчала жёлкло-коричневая трава. Два куста ветлы росли у
берега, неосязаемо-дымчатые, мокрые от задержавшегося на них крупинками и
тающего снега. Но не тут было главное, а -- в глубине: густою грудью леса
стояли оливково-чёрные ели, в первом же ряду их беззащитно светилась
единственная берёза. От её жёлтого нежного огня ещё мрачней и сплочённей
стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо. Небо было в безнадёжных
пегих клочьях, и в такой же пасмури заходило задушенное солнце, не имея силы
прорваться прямым лучом. Но и не это ещё было главное, а -- стылая вода
устоявшегося ручья. Она имела налитость, глубину. Она была
свинцово-прозрачная, очень холодная. Она вобрала в себя и держала равновесие
между осенью и зимой. И даже ещё какое-то другое равновесие.
пытался остояться против него, но снова беспомощно ему подчинялся. Закон
этот был -- что ничто, сделанное им раньше, не имело веса, не шло в счёт, не
составляло никакой заслуги автора. Только то единственное, что писалось
сегодня, только оно было средоточие всего его жизненного опыта, высшей
точкой его способностей и ума, первым пробным камнем его таланта.
отчаяние было всё забыто, а теперь вот это единственное -- первое, на
котором он учился писать по-настоящему! -- оно не удавалось -- и вся жизнь
была прожита зря, и таланта не было никогда никакого!
но всё это было ничто, если она не передавала высшего синтеза природы. Этого
синтеза -- понимания, успокоения, всесоединения -- сам в себе, в своих
крайних чувствах Кондрашёв никогда не находил, но знал и поклонялся ему в





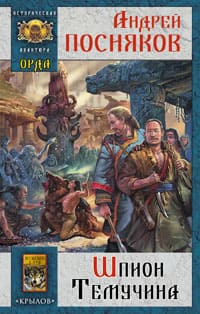
 Лукин Евгений
Лукин Евгений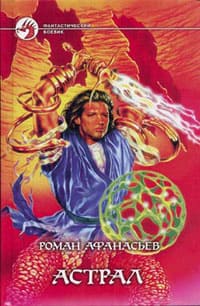 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Контровский Владимир
Контровский Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия Махров Алексей
Махров Алексей Шилова Юлия
Шилова Юлия