«Понуждайся через нехотенье на добрые дела…»
«Вставай до солнца, как мужи добрые делают, а узревши солнце, пищу прими земную, постную иль скоромную, какой день выпадет…»
«До обеда думай с дружиною о делах, верши суд людям, на ловы [Ловы – охота.] выезжай, тиунов и ключников расспрашивай, а после полудня почивай, после полудня трудиться грех…»
«Не ленись, ибо леность всем порокам мать; ленивый что умел, то забудет, а что не умел – вовсе не научится…»
«На дворе все верши сам, не полагайся на тиуна да на отроков, понеже бывает – неревностны они и своекорыстны…»
«На войне полками сам правь; еденью, питью и спанью не мироволь, блюстись надобно ратным людям от пьянства и блуда…»
Одни заповеди Даниил, севши на самостоятельное княжение, продолжал исполнять, а другие отставил, потому что, к примеру, зачем князю молчать при старших и держать очи долу, если он старее всех старейшин в Москве? Но главным заповедям Даниил не изменял никогда и потому считал себя в жизни правым.
Память услужливо подсказывала воспоминания о прошлых благодеяниях, которых Даниил никогда не чуждался, о славословии отмеченных его милостью людей, о богатых вкладах в монастыри и храмы, о ликующем колокольном звоне, который встречал его, московского князя, после победоносных походов, предпринятых не ради честолюбия, но для пользы земли, вручившей ему власть над собою. Все это было, было, и на душе становилось светлее, когда Даниил вспоминал об этом…
Но потом вдруг темная полоса перечеркивала радостные видения, и перед глазами Даниила оживало другое, тоже составляющее неотъемлемую часть княжеского бытия.
Изодранные батогами, кровоточившие спины холопов…
Поскрипывание ветвей столетнего дуба на перекрестке дорог, где раскачивались на ледяном декабрьском ветру тела повешенных татей…
Глухие стоны из земляной тюрьмы-поруба, последнего прибежища изолгавшихся сельских тиунов…
Взмах секиры и упавшая в пыль голова волочанского вотчинника Голтея Оладьина, сына Шишмарева, которого люди боярина Протасия уличили в злоумышлении на князя…
После казни Голтея Оладьина молодой Даниил пришел за утешением к архимандриту Геронтию и получил искомое утешение. Геронтий произнес успокоительные слова, которые надолго запомнились Даниилу: «Не смущайся душою, княже, ибо смерть настигает лишь того, кому предопределена свыше. Суд твой изменнику Голтею от бога пришел, но не от тебя!»
Даниил поверил архимандриту и продолжал верить теперь, потому что слова эти удобно укладывались среди собственных размышлений московского князя, мнившего себя божьей десницей на земле…
И все-таки размышления о добре и зле порой повергали Даниила в смутную тревогу. Он понимал, что без зла, без княжеской очистительной грозы не жить княжеству. Зло во пользу – уже не зло, а благо. Но кто может знать меру полезного зла? Какой мудрый подскажет, что до сего рубежа зло есть благо, а далее – во вред? Что богоугодно, а что греховно? Человек во грехе зачат, грехом живет и помирает грешным, если не избывает вольных и невольных грехов своих тремя святыми деяниями: слезами, покаянием и молитвой. Так учили отцы церкви. И Даниил в часы сомнений завершал дневные заботы заветной молитвой: «Господи, помилуй мя, якоже блудницу и мытаря помиловал еси, тако и нас грешных помилуй!»
Молился и засыпал, просветленный. Труднее было освободиться от княжеских забот, которые давили даже сейчас, на смертном одре. Многое было сделано Даниилом, но оставались еще и незавершенные дела. А Даниилу хотелось самому закончить все, что было начато при нем, не передоверяя сыновьям.
=2=
В часы просветления князь Даниил Александрович звал думных людей, слушал тиунов и сельских старост, расспрашивал воевод, распоряжался.
Оживал тогда княжеский двор, приличная скорбь на лицах думных людей сменялась озабоченностью, а сам Даниил, окунувшись в привычные хлопоты, будто возвращался к жизни, и боль в груди отпускала его.
И скакали княжеские гонцы: в Рузу – торопить тысяцкого Петра Босоволкова со строительством новою града; в Переяславль-Залесский – напомнить сыну Юрию и боярину Федору Бяконту, чтобы соль с переяславских варниц они придержали бы до летней рыбной поры, а не растрясали проезжим купцам; в Нижний Новгород – вызнавать доподлинно про ордынское сидение великого князя Андрея, ибо туда вести из Орды приходили раньше, чем в другие города…
В один из таких просветленных часов князь Даниил велел привести в ложницу плененного рязанского князя Константина Романовича. Константин второй год томился в тесном заключении, но не соглашался скрепить крестоцелованием договорную грамоту. А без грамоты рязанское дело оставалось незавершенным.
Константин смирно стоял перед княжеской постелью. Мятая полотняная рубаха плотно облепила его располневшее тело. Лицо Константина было рыхлым, одутловатым, бледным до синевы – неволя будто смыла с него все живые краски. «А ведь не в порубе сидит, – подумал Даниил, – а в теплой подклети, на щедрых кормах…»
Молчание затянулось.
Даниил разглядывал пленника, стараясь угадать, чего можно ждать от последнего разговора с рязанским князем. У Даниила не оставалось больше сил на уговоры и угрозы, на призывы к рассудку упрямого рязанского князя. Даниил хотел одного: понять, может ли он закончить наконец затянувшуюся тяжбу с Константином? Но как понять, если Константин даже не поднимает глаза?
– Во здравии ли, князь? – тихо спросил Даниил.
Константин переступил с ноги на ногу, ответил смирно:
– Во здравии… Божьей милостью…
Ответ Константина был покорным и уважительным, но в глазах его вдруг сверкнуло злобное торжество, скрытое до поры показным смирением, видно, тяжелая болезнь Даниила вселила в Константина надежду на избавление из плена, на сладостную месть.
Нет, не покорился Константин Романович!
Даниил понял это и заговорил, – не для того, чтобы еще раз попытаться вырвать у рязанского князя согласие, бесполезно это было, – но с единственным желанием погасить торжествующий огонек в его глазах:
– Не надумал еще с Москвой замиряться? Ну, подумай еще, подумай!.. А немощи моей напрасно радуешься. Сыновья мое дело продолжат, их-то ты не переживешь! – насмешливо сказал Даниил и, помолчав, добавил, как бы в раздумье: – А может, и меня ты не переживешь…
В глазах Константина плеснулся испуг, губы задрожали.
– Уведите! – крикнул Даниил караульным ратникам.
Ратники вцепились в локти Константина, и уже не бережно, а грубо, почти волоком, потащили его к двери. По разговору и обхождение: милость Даниила Александровича к пленнику не вернулась, горе ему…
Даниил вдруг представил, да так явственно, будто увидел: втискивается в подклеть к Константину глыбоподобный Шемяка Горюн, цепляясь плечами сразу за оба дверных косяка; трепещет упрямый рязанский князь, узрев протянутые к его горлу волосатые пальцы… Представил – и разочарованно вздохнул. Это было невозможно. Это не укладывалось в очерченный княжескими заповедями круг допустимого.
Прямое убийство князя-соперника безусловно осуждалось на Руси со времени Святополка Окаянного. Плененного князя можно было лишить света, исторгнув вон очи его. Можно отсечь правую руку, чтобы нечем было держать меч. Можно заморить голодом, всадив в глухой погреб. Все можно было отнять у плененного князя, кроме самой жизни.
Пусть поживет пока что князь Константин Рязанский…
=3=
И снова текли думы Даниила, неторопливо и просторно, как высокая вешняя вода, не умещавшаяся в проложенном русле и выплескивавшаяся на берега, которые она никогда не захлестывала раньше.
Сладко было вспоминать о достигнутом, но и упущенное тоже было, и восполнить уже ничего нельзя – поздно! И как-то так выходило, что достигнутое оказывалось в кругу высоких державных дел, а упущенное – среди теплых человеческих радостей, которые все-таки нужны властелинам так же, как мизинным людям.
Многим был одарен в жизни князь Даниил, но и обделен, оказывается, тоже немалым.
Обделен был любовью, так счастливо начавшейся с обета быть телом и душой единой, который произнесли они с княгиней Ксенией. Мила ему осталась Ксения и по сей день, но если сложить все часы, проведенные с ней вместе, то совсем немного их набегало, счастливых часов. Ласки Ксении были лишь короткими привалами на бесконечном княжеском пути, и часто случалось, что телом Даниил был с женой, а думами своими – где-то немыслимо далеко, в стольном Владимире или в коварной Твери, в дмитровских лесах или на просторах Дикого Поля, куда уводили его нескончаемые княжеские заботы, сокращая и без того краткие часы свиданий. И тогда уже не слышал Даниил ласковых слов, и Ксения виновато отстранялась, встретив его отрешенный взгляд.
Обделен был Даниил душевной близостью с сыновьями. Он вдруг понял, что упустил младших сыновей, кровь от крови и плоть от плоти своей, боль свою и надежду. Казалось, он делал все, что положено было делать заботливому отцу, с детства готовил сыновей к судьбе правителей и ратоборцев. Но делал это не своими руками, а руками других людей, появлялся перед сыновьями лишь изредка. И успевал только замечать перемены, которые произошли с сыновьями между редкими встречами, и удивлялся, насколько несхожими они становились и как с годами увеличивалось это несходство.
Старший сын Юрий, самый любимый, старался во всем походить на отца. И внешне он был похож на молодого Даниила: такой же рослый, светловолосый, с выпуклой грудью и холодными серыми глазами. На бояр и дворовую челядь покрикивал по-отцовски, надменно и непререкаемо, и его уже побаивались на Москве.
Даниил радовался, узнавая в княжиче Юрии самого себя, и улучал минуты, чтобы передать старшему сыну крупицы выстраданной княжеской мудрости. Не часто это удавалось, но в Юрии он был уверен, спокоен за него, а вот остальные…
Только последнее время он начал внимательней присматриваться к средним сыновьям – Александру и Борису, и с грустью убеждался, что не понимает их, как они не понимают его, Даниила.
Точно бы все было у Александра и Бориса, что отличает подлинных княжичей: к отцу-князю почтительны, перед людьми властны, разумеют книжную премудрость, с детства приучены к ратным потехам. Но чего-то не хватало княжичам. Не видно было в них душевной твердости, как будто монахи-книжники Богоявленского монастыря, в котором Александр и Борис провели детские годы, размягчили души их, яко воск, низвели с княжеской высоты до будничной серости боярских детей, привыкших не заглядывать дальше своей вотчинной межи и покорно следовать за чужим конем.
Напрасными были запоздалые беседы Даниила со средними сыновьями. Не приоткрывали душу Александр и Борис, почтительно соглашались со всем, что говорил отец, но отвечали не по собственному разумению, а лишь угадывая, что он хотел бы услышать от них. Ни разу глаза Александра и Бориса не загорались достойной обидой, хотя Даниил порой намеренно говорил им оскорбительные слова. Смиренны и уважительны сыновья, но – не более того. С чем выйдут они в самостоятельное плавание? [Князья Александр и Борис в 1306 году бежали в Тверь, изменив Юрию Московскому. Александр умер в Твери в 1308, Борис – в Новгороде в 1322 году, где был иноком в монастыре.]
Младший сын Иван… С ним – еще сложнее…
Иван вышел обличьем не в отца, а в мать Ксению: невысокий, плотный, лицо круглое, улыбчивое. А вот глаза у Ивана были совсем не такие, как у княгини Ксении. Не добрые, а колючие, прищуренные, подозрительные были у княжича Ивана глаза.
Княжич Иван сызмалетства был признанным любимцем боярина Протасия Воронца, его выучеником. Чего особенного усмотрел боярин в младенце, если приблизил его к себе чуть не с пеленок? Этого Даниил не знал, но что-то, несомненно, было, было!
Поначалу Даниил Александрович благосклонно отнесся к заботам боярина о младшем сыне. Самому было недосуг, а у Протасия Воронца было чему научиться: великого ума и хитрости человек. Но потом Даниил стал замечать в младшем сыне неладное. Появилось у Ивана немыслимое, прямо-таки жертвенное упрямство. В спорах со старшими братьями он никогда не уступал, хотя покалачивали его братья частенько: слабее он был и Александра, и Бориса, не говоря уже о старшем, Юрии. Но потом сами братья стали бояться Ивана, потому что он зло мстил обидчикам, и месть его была неотвратимой, разве что по времени откладывалась. День проходил после ссоры, а то и больше, братья забывали о ней, а Иван помнил. Подкрадывался из-за угла, неожиданно бил палкой или еще чем-нибудь – больно, хлестко. Молча терпел ответные побои и снова, выбрав время, бил и бил, пока обидчик не взмолится о пощаде. Лучше не связываться было с княжичем Иваном…
И еще заметил Даниил Александрович: думал Иван о людях всегда плохо, ожидал от них всяческих подвохов. Откуда такое пришло, гадать не приходилось. Даниил подслушал невзначай наставления боярина Протасия, которым Иван внимал с полным доверием.
«Зол человек даже противу беса, и бес того не замыслит, что злой человек замыслит и содеет, а потому людям не верь. Устами часто медоточивы они, но сердцем черны», – вдалбливал боярин Протасий.
А Иван поддакивал ему, сам вспоминал дурные людские поступки, о которых слышал от старших или сам где-то подсмотрел, и Даниил Александрович удивился, что Иван отнюдь не осуждает зла, но даже восхищается им, когда зло оказывается удачливым…
И еще одно наставление боярина Протасия услышал Даниил:
«Запомни, Иване! Сила человека в богатстве, не в чем ином. Потому что так заведено: беден человек, и честь ему бедная!»
Крепко, видно, западали слова Протасия Воронца в душу княжича. Иван завел себе кожаную сумку-калиту и не расставался с ней, складывал поначалу в калиту свои ребячьи безделушки, а потом серебро, выпрошенное у матери и у боярина Протасия – боярин не скупился, своих детей-наследников у него не было. И вещицы разные, оставленные без присмотра, тоже оказывались в калите, а вытребовать их у Ивана обратно никому не удавалось. «Калита ты, а не человек!» – бросил однажды в сердцах Юрий. Прозвище это, разнесенное по Москве глумливым шепотком комнатных холопов, прочно прилепилось к младшему Данииловичу: «Иван Калита»!
Князь Даниил Александрович пробовал укорять Протасия, что не во всем ладно наставляет он княжича, но боярин только хитренько прищуривал глазки:
«Коли Ивану от бога присуждено быть князем, то должен Иван о своем княжестве как о калите радеть. Не оттягают у него супротивники ни волости, ни села, ни деревни малой, но сам Иван волостей и сел примыслит немало. То во благо будет Московскому княжеству, не во вред…»
И Даниил Александрович, давно измерявший людские достоинства и недостатки одним мерилом – пользой для своего княжества, вынужден был соглашаться с Протасием Воронцом. Разумом понимал правоту боярина, но все-таки любил Ивана меньше, чем остальных сыновей…
А еще обделен был князь Даниил Александрович Московский простой человеческой жалостью, и не только своей жалостью и состраданием к другим людям, которые просветляют душу, но и жалостью людей к самому себе.
Даниилом Александровичем восхищались, перед ним трепетали, его прославляли или ненавидели, но никто никогда не пожалел его, как будто князю были недоступны обыкновенные человеческие слабости и не нуждался он в душевном участии!
А может, все-таки жалели, но скрывали свою жалость, считая ее недостойной и оскорбительной для князя?
О, одиночество правителей!
Кто знает тяжесть этого одиночества, кроме них самих?
Почему сейчас, когда близок конец земного пути князя Даниила Александровича Московского, перед ним все чаще и чаще проплывают неясными тенями воспоминания не о шумных княжеских пирах, не о величественной поступи закованных в железо полков, не о ликующем колокольном звоне и приветственных криках множества коленопреклоненных людей, а о чем-то маленьком, теплом, ласковом, мимо чего он когда-то прошел, даже не остановившись?
Вот опять, опять как наяву, это видение!
…Лесная деревенька на речке Пахорке. Князь Даниил в избе смерда-зверолова пережидает непогоду. Сам зверолов, укутанный звериными шкурами, лежит в беспамятстве на лавке: медведь его задрал в лесу. А жонка зверолова бережно поглаживает ладонью его спутанные волосы, шепчет щемяще-жалостные слова:
«Родненький мой, болезненький… Горюшко ты мое… Кровиночка моя… Как же ты зверя-то допустил до себя, не уберегся?.. Выхожу я тебя, родименький мой, слезами раны твои обмою…»
Даниил, замерев, слушает ласковые слова, а глаза почему-то увлажняются слезами, и он отворачивается, скрывая эти слезы от людей, и сам не понимает, что с ним творится. Не помнит Даниил святой материнской ласки, но где-то в подсознании еще сохранилась тяга к ней, так некстати всплывшая…
В избу вламывается воевода Илья Кловыня – громогласный, возбужденный:
«Княже! Тверские дружины Клязьму перебрели!»






 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий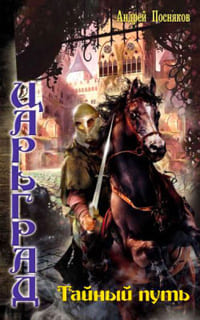 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Каменистый Артем
Каменистый Артем Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Курылев Олег
Курылев Олег