Всех трех сближала любовь к иконописному художеству: Федор и Евтихий сами были добрые мастера, а Илья Потапыч тонкий знаток и ценитель.
Сын бедной вдовы, просвирни при церкви Благовещения в Угличе, Евтихий, после смерти матери остался сиротой, принят был на воспитание пономарем той же церкви, Вассианом Елеазоровым, и в отроческих летах «отдан в научение иконного воображения» некоему старцу Прохору из Городца, человеку праведному, но мастеру неискусному, о котором можно было сказать то же, что сказано в иконописном подлиннике о преподобном Антонии Сийском: «Не хитр был мудростью сею преподобный, но препросто иконописательство его было, более же в посте и в молитве упражнялся, восполняя сими недостаток хитрости».
От старца Прохора перешел Евтихий к иноку Даниле Черному, который расписывал церкви в Спасо-Андрониковом монастыре, – ученику величайшего из древних русских мастеров, Андрея Рублева. Пройдя все ступени науки от услуг «ярыжного» – простого работника, носившего воду, и терщика красок до «знаменщика» – рисовальщика, Евтихий, благодаря природному дару, достиг такого мастерства, что приглашен был в Москву писать «Деисусное тябло» [Тябло – ряд икон.] в Мироварной палате патриаршего дома.
Здесь подружился он с Федором Игнатьевичем Рудометовым, Федькою Жареным, тоже молодым иконописцем и «перспективного дела мастером добрым», который расписывал стены той же палаты «травным письмом по золоту».
Рудометов ввел товарища в дом боярина Федора Карпова, жившего у Николы на Болвановке. В хоромах этого боярина Федька писал на потолке – «подволоке» столовой избы «звездочетное небесное движение, двенадцать месяцев и беги небесные», также «бытейские и преоспективные разные притчи» и «цветные и разметные травы», и «левчата», то есть ландшафты, наперекор завету старых мастеров, запрещавших иконописцам изображать какие-либо предметы и лица, кроме священных.
Федор Карпов находился в дружеских сношениях с немцем Николаем Булевым, любимым врачом великого князя Василия Ивановича. Этот Булев, «хульник и латынномудреник», по выражению Максима Грека, «писал развращенно на православную веру», проповедуя соединение церквей. Благочестивые московские люди утверждали, будто бы под влиянием немчина Булева и боярин Федор «залатынился», начал «прилежать звездозаконию, землемерию» – геометрии, «остроумии» – астрономии и чародейству, и чернокнижию, и «многим эллинским баснотворениям», стал держаться книг еретических, церковью отреченных, и «всяких иных составов и мудростей бесовских, которые прелести от Бога отлучают».
Обвиняли его и в ереси жидовской.
Боярин Федор полюбил молодых иконописцев, работавших в доме его, Федьку Рудометова и Тишу Гагару. Полагая, что странствие в чужие земли принесет большую пользу мастерству их, он выхлопотал им должности младших писцов при Посольском дворе.
Уже в Москве, в доме Карпова, среди заморских диковин, отреченных книг и вольнодумных толков об учении жидовствующих, Федька пошатнулся в вере. А в чужой земле, среди чудес тогдашних итальянских городов, Венеции, Милана, Рима, Флоренции, окончательно сбился с толку, потерял голову и жил в непрестанном изумлении, «исступлении ума», как выражался Илья Потапыч. С одинаковым благоговением посещал игорные вертепы, книгохранилища, древние соборы и притоны разврата. Кидался на все с любопытством ребенка, с жадностью варвара. Учился латинскому языку и мечтал нарядиться во фряжеское [Итальянское (устар.)] платье, даже сбрить усы и бороду, что почиталось грехом смертным. «Ежели кто бороду сбреет и так умрет, – предостерегал племянника Илья Потапыч, – недостоит над ним служить, ни сорокоустия петь, ни просвиры, ни свечи по нем в церковь приносить. С неверными да причтется, образ мужеский растлевающий, женам блудовидным уподобляющийся, или котам и псам, которые усы имеют простертые, брад же не имеют».
В разговорах начал Федька употреблять без нужды иноземные слова. Хвастал познаниями, «высокоумничал», рассуждал об «алхиме?и» – «как делать золото», о диалектике – «что? есть препинательное толкование, коим изыскуется истина», о «софистикии, открывающей едва постижное естеству человеческому».
– На Москве людей нет, – жаловался Евтихию, – все люд глупый, жить не с кем.
Будучи навеселе, любил «пытать о вере и простирать вопросы недоуменные».
– Я учился философству, и на меня находит гордость, – признавался он, – я знаю все везде, где что ни делается!
И доходил до такого вольнодумства в этих пытаниях о вере, что, не довольствуясь «софистикией» чужеземною, проповедывал еще более крайние мнения собственных русских философов, последователей жидовской ереси, доказывавших, что Иисус Христос не родился, когда же родится, то Сыном Божиим наречется, «не по существу, а по благодати», – «кого же называют христиане Иисусом Христом Богом, тот простой человек, а не Бог, умер и во гробе истлел»; утверждавших, что ни иконам, ни кресту, ни чаше поклоняться не подобает, «почитать достоит, поклоняться же не подобает ничему, разве единому Богу», и никаким земным властям повиноваться не следует. Федька приводит также слова о бессмертии души и о загробной жизни, которые приписывались соблазненному будто бы в ересь жидовствующих, московскому митрополиту Зосиме:
– «А что? то царство небесное? а что ? то второе пришествие? А что? то воскресение мертвых? Ничего того нет. Умер кто, так и умер – по-та-места и был».
Дяди Ильи Потапыча, учившего племянника не только словом, но и посохом, Федька, несмотря на школьнический задор свой, все-таки крепко побаивался.
Илья Потапыч Копыла был человек старого закала, до конца возлюбивший «твердое о благочестии стояние». Чудеса иноземных искусств и наук не прельщали его. «Вся сия суть знамения антихристова пришествия, начало болезням, – говаривал он. – Нас, овец Христовых, софистиками вашими не перемудряйте: некогда нам философства вашего слушать – уже кончина века приходит, и суд Божий стоит при дверях. Какое приобщение света к тьме или какое соединение Велиару со Христом, – так же и поганому латынству с нашим православным христианством?»
«В Европии, – по словам Копылы, – третьей части земли, части Ноева сына, Яфета, люди живут величавые, гордые, обманчивые и храбрые во бранях, к похотям же телесным и ко всяким сластям слабые; все творят по своей воле; к учению искательны, к мудростям и всяким наукам тщательны; от благочестия же заблудились и, по наущению дьявольскому, в различные ереси рассеялись, так что ныне во всей вселенной одна лишь русская земля в благочестии стоит неподвижно и, хотя к наукам словесным не очень прилежит, в высокоумных мудроплетениях софистических не изощряется, зато здравую веру содержит неблазненно. Люди же в ней сановиты, брадаты и платьем пристойным одеяны; Божии церкви святым именем украшаются; и подобной той земле и благолепнее во всей Европии не обретается».
В сыне углицкой просвирни, Евтихии Паисеевиче Гагаре, чужие земли возбуждали не меньшее любопытство, чем в Федьке Жареном. Вольнодумствам товарища, в которых чувствовал Евтихий больше хвастовства и удали, чем действительного безбожия, не придавал он значения. Но и спокойного презрения Ильи Потапыча ко всему иноземному не разделял. После всего, что? видел и слышал он в чужих краях, не удовлетворяли его Измарагды, Златоструи, Торжественники, которые заключали весь круг человеческих знаний в таких вопросах и ответах: «Отгадай, философ, курица ли от яйца или яйцо от курицы? – Кто родился прежде Адама с бородою? – Козел. – Какое есть первое ремесло? – Швечество, ибо Адам и Ева сшили себе одежду из листьев древесных. – Что? есть – четыре орла одно яйцо снесли? – Четыре евангелиста написали св. Евангелие. – Что держит землю? – Вода высокая. – Что держит воду? – Камень великий. – Что держит камень? – Восемь больших золотых китов да тридцать меньших на озере Тивериадском».
Евтихий, впрочем, не верил и Федькиной ереси, будто бы «земное строение – не четвероугольное, не треугольное и не круглое, а наподобие яйца: во внутреннем боку – желток, извне – белок и черепок; так же разумей и о земле: земля есть желток посередине яйца, воздух же – белок, и как черепок окружает внутренность яйца, так небо окружает землю и воздух». Но, и не веря этому соблазнительному учению, все-таки чувствовал, что некогда недвижные киты, на коих утверждена земля, для него зашевелились, сдвинулись – и теперь уже не остановит их никакая сила.
Смутно чуялось ему, что в суеверном поклонении Федьки иноземным хитростям, несмотря на все его озорничество, что-то скрывается истинное, чего ни насмешки, ни угрозы, ни даже суковатая палка дяди Копылы опровергнуть не могут.
«Хорошему не стыдно навыкать и со стороны, с примера чужих земель. – Арифметика и преоспектива есть дело полезное, меду сладчайшее и не богопротивное», – говаривал Федька с глубоким чувством. И слово это находило отклик в сердце Евтихия.
Силы и разумения испрашивал он у Бога, дабы, не заблудившись от веры отцов, не «залатынившись», подобно Федьке, но и не отвергая без разбору всего чужеземного, подобно Илье Потапычу, – очистить пшеницу от плевел, доброе от злого, найти «истинный путь и образ любомудрия». И сколь ни казалось ему дело это трудным, даже страшным, тайный голос говорил, что оно свято и что Господь не оставит его Своею помощью.
В Амбуаз, на свадьбу герцога Урбинского и крестины новорожденного дофина отправился один из двух русских послов, находившихся в Риме, – Никита Карачаров: он должен был представить королю «поминки», дары великого князя Московского – шубу на горностаях, атласную, червчатую, с травным золотым узором, другую шубу на бобровых пупках, третью на куньих черевах; сорок сороков соболей, да лисиц чернобурых и сиводушчатых, да остроги-шпоры золоченые, да птиц охотничьих.
Среди других посольских писцов и подьячих Никита взял с собою во Францию Илью Потапыча Копылу, Федьку Жареного и Евтихия Гагару.
V
Однажды, в конце апреля 1517 года, ранним утром, на большой дороге через заповедный лес Амбуаза, лесничий короля увидел всадников в таких необычайных нарядах, говоривших на таком странном языке, что остановился и долго провожал их глазами, недоумевая, турки ли это, послы ли Великого Могола или самого Пресвитера Иоанна, живущего на краю света, там, где небо сходится с землею.
Но это были не турки, не послы Великого Могола или Пресвитера Иоанна, а люди «зверского племени», выходцы страны, считавшейся не менее варварской, чем сказочный Гог и Магог, – русские люди из посольства Никиты Карачарова.
Тяжелый обоз с посольской челядью и королевскими поминками отправлен был вперед; Никита ехал в свите герцога Урбинского. Всадники, повстречавшиеся лесничему, сопровождали персидских соколов, челиг и кречетов, посланных в подарок Франциску I. Драгоценных птиц везли с большими предосторожностями, на особом возке, в лубяных коробах, внутри обитых овчинами.
Рядом с возком ехал на серой в яблоках, резвой кобыле Федька Жареный.
Ростом он был так высок, что прохожие на улицах чужеземных городов оглядывались на него с удивлением; лицо у него было широкоскулое, плоское, очень смуглое; черные как смоль волосы, за что он и прозван был Жареным; бледно-голубые, ленивые и в то же время жадно-любопытные глаза, с тем противоречивым, разнообразным и непостоянным выражением, которое свойственно русским людям – смесью робости и наглости, простодушия и лукавства, грусти и удали.
Федька слушал беседу двух товарищей, тоже слуг посольских, Мартына Ушака да Ивашки Труфанца, знатоков соколиной охоты, которым Никита поручил доставку птиц в Амбуаз. Ивашка рассказывал об охоте, устроенной для герцога Урбинского французским вельможею Анн де Монморанси в лесах Шатильона.
– Ну и что же, хорошо, говоришь, летел Гамаюн?
– И-и, братец ты мой! – воскликнул Ивашка. – Так безмерно хорошо, что и сказать не можно. А наутро в субботу, как ходили мы тешиться с челигами в Шатилове (Шатиловым называл он Шатильон), так погнал Гамаюн да осадил в одном конце два гнезда шилохвостей да полтретья гнезда чирят; а вдругорядь погнал, так понеслось одно утя-шилохвост, побежало к роще наутек, увалиться хотело от славной кречета Гамаюна добычи, а он-то, сердечный, как ее мякнет по шее, так она десятью разами перекинулась да ушла пеша в воду опять. Хотели по ней стрелять, чаяли, что худо заразил, а он ее так заразил, что кишки вон, – поплавала немножко да побежала на берег, а Гамаюн-от и сел на ней!
Выразительными движениями, так что лошадь под ним шарахалась, показывал Ивашка, как он ее «мякнул» и как «заразил».
– Да, – молвил с важностью Ушак, любитель книжного витийства, – зело потеха сия полевая утешает сердца печальные; угодна и хвальна кречатья добыча, красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет!
Впереди, в некотором расстоянии от возка, ехали, тоже верхом, Илья Копыла и Евтихий Гагара.
У Ильи Потапыча лицо было темное, строгое, борода белая как лунь и такие же белые волосы; все дышало в нем благообразною степенностью; только в маленьких зеленоватых слезящихся глазках светилась насмешливая хитрость и пронырство.
Евтихий был человек лет тридцати, такой тщедушный, что издали казался мальчиком, с острою, жидкою бородкою клином и незначительным лицом, одним из тех лиц, которые трудно запомнить. Лишь изредка, когда оживлялся он, в серых глазах его загоралось глубокое чувство.
Федьке надоело слушать о соколах и шилохвостях. Несмотря на раннее утро, не раз уже прикладывался он к дорожной сулее, и, как всегда в таких случаях, язык у него чесался от желания поспорить – «повысокоумничать».
По отдельным долетавшим до него словам понял он, что ехавшие впереди Гагара и Копыла беседуют об иконном художнике, – пришпорил коня, догнал их и прислушался.
– Ныне, – говорил Илья Потапыч, – икон святых изображения печатают на листах бумажных, и теми листами люди храмины свои украшают небрежно, не почитания, но пригожества ради, без страха Божия, которые листы, резав на досках, печатают немцы да фрязи-еретики, по своему проклятому мнению, развращенно и неистово, наподобие лиц страны своей и в одеждах чужестранных, фряжских, а не с древних православных подлинников. Еще и Пресвятую Богородицу пишут иконники с латинских же образцов с непокровенною главою, с власами растрепанными...
– Как же так, дядюшка? – отхлебнув из сулеи, вступился Федька с притворною почтительностью, с тайным вызовом. – Неужели скажешь, что русским одним дано писать иконы? Отчего бы и мастерства иноземного не принять, ежели по подобию и свято и лепо?
– Не гораздо ты, Федька, о святых иконах мудрствуешь, – остановил его Копыла, нахмурившись. – Стропотное говоришь и развращенное!
– Почему же стропотное, дядюшка? – притворился Федька обиженным.
– А потому, что пределов вечных прелагать не подобает: кто возлюбит и похвалит веру чужую, тот своей поругался.
– Да ведь я не о вере, Потапыч. Я только говорю: преоспектива есть дело полезное и меду сладчайшее...
– Что ты мне преоспективу свою в глаза тычешь? Заладила сорока Якова... Сказано: кроме предания святых отцов, не дерзать. Слышишь? В преоспективе ли, в ином чем, своим замышлением ничего не претворят. Где новизна, там и кривизна.
– Твоя правда, дядюшка, – опять увернулся Федька с лицемерною покорностью. – Я и то говорю: много нынче иконники пишут без рассуждения, без разума, а надобно писать да вопросу ответ дать. Сказано: подлинно изыскивать подобает, как древние мастера писали. Да вот беда: древних-то много: и новгородские, и корсунские, и московские – всяк на свой лад. Да и подлинники разные. В одних одно, в других другое. Ин старое кажется новым, ин новое старым. Вот и поди тут разбери, где старина, где новизна. Нет, Потапыч, воля твоя, а без своего умышления, без разума, мастеру доброму быть нельзя!
Старик, озадаченный неожиданностью обхода, на минуту опешил.
– Опять же и то, – продолжал Федька, пользуясь его смущением, с еще большею смелостью, – где таковое указание нашли, будто бы единым обличием, смугло и темновидно святых иконы писать подобает? Весь ли род человеческий в одно обличие создан? Все ли святые скорбны и тощи бывали? Кто не посмеется такому юродству, будто бы темноту более света чтить достоит? Мрак и очадение на единого дьявола возложил Господь, а сынам Своим, не только праведным, но и грешным, обещал светоподание: «яко снег, убелю вас и яко ярину, очищу». И в другой раз: «Аз есмь свет истинный, ходяй по Мне не имать ходити во тьме». И у пророка сказано: «Господь воцарился, в лепоту облекся».
Федька говорил хотя не без книжного витийства, но искренно.
Евтихий молчал; по горящим глазам его видно было, что он слушает с жадностью.
– По преданию святых отцов, – начал было снова Илья Потапыч с важностью, – что? у Бога свято, то и лепо...
– А что? лепо, то и свято, – подхватил Федька, – это, дядюшка, все едино.
– Нет, не едино, – рассердился, наконец, старик. – Есть лепота и от дьявола!
Он обернулся к племяннику и посмотрел ему прямо в глаза, как бы соображая, не прибегнуть ли к обычному доводу, к суковатой палке. Но Федька выдержал взор его, не потупившись.
Тогда Копыла поднял правую руку и, как будто произнося заклятие на самого духа нечистого, – воскликнул торжественно:
– Сгинь, пропади, окаянный, со своими ухищрениями! Христос мне спаситель, и свет, и веселие, и стена несокрушимая!
Всадники были на опушке Амбуазского леса. Оставив слева ограду замка Дю-Клу, въехали в городские ворота.
VI
Русскому посольству отвели помещение в доме королевского нотариуса, мэтра Гильома Боро?, недалеко от башни Орлож – единственном доме, оставшемся свободным в городе, переполненном приезжими.
Евтихию с товарищами пришлось поселиться в маленькой комнате, похожей на чердак, под самою крышею. Здесь, в углублении слухового окна, устроил он крошечную мастерскую: прибил к стене полки, разместил на них гладкие дубовые и липовые дощечки для икон, муравленные горшочки с олифой, с прозрачным стерляжьим и севрюжьим клеем, глиняные черепки и раковины с твореным золотом, с яичными вапами; поставил деревянный ящик, постланный войлоком, служивший ему постелью, и повесил над ним икону Углицкой Божьей Матери, подарок инока Данилы Черного.
В углу было тесно, но тихо, светло и уютно. Из окна, между крышами и трубами, открывался вид на зеленую Луару, на дальние луга и синие верхушки леса. Порой снизу, из небольшого садика, в открытое окно – дни стояли жаркие – подымался дух черемухи, напоминавший Евтихию родину: знакомый огород на окраине Углича, с грядками укропа, хмеля, смородины, с полуразвалившимся тыном перед старым домиком благовещенского пономаря.
Однажды вечером, несколько дней спустя по приезде в Амбуаз, сидел он один в своей мастерской. Товарищи ушли в замок на турнир в честь герцога Урбинского.
Было тихо; только под окном слышалось воркование голубей, шелковый шелест их крыльев да порой мерный бой часов на соседней башне.
Он читал любимую книгу свою «Иконописный Подлинник», свод кратких указаний, расположенных по дням и месяцам, – как изображать святых. Всякий раз Евтихий, хотя знал эту книгу почти наизусть, перечитывал ее с новым любопытством, находил в ней новую отраду.
Но в последние дни слышанный в лесу по дороге в Амбуаз спор Ильи Потапыча с Федькой Жареным пробудил давно уже таившиеся в нем, навеянные всем, что видел он в чужих краях, тревожные мысли. И он искал им разрешения в «Подлиннике», единственно верном источнике «изящного познания истинных образов».
«Какова была телесным образом Богородица? – читал он одно из своих любимых в книге мест. – Росту среднего, вид лица ее, как вид зерна пшеничного; волоса желтого; острых очей, в них же зрачки, подобные плоду маслины; брови наклоненные, изрядночерные; нос не краток; уста, как цвет розы, – сладковесия исполнены; лицо ни кругло, ни остро, но мало продолжено; персты же богоприимных рук ее тонкостью источены были; весьма проста, никакой мягкости не имела, но смирение совершенное являла; одежду носила темную».
Читал также о великомученице Екатерине, за красоту и светлость лица своего получившей название от эллинов «тезоименитая луне»; о Филарете Милостивом, который «преставился, имея девяносто лет; но и в такой старости не изменилося лицо его, благолепно же и прекрасно было, как яблоко румяное».
И казалось Евтихию, что Федя прав: ликам святых до?лжно быть светлыми и радостными, ибо Сам Господь в «лепоту облекся», и все, что прекрасно, – от Бога.
Но, перевернув несколько страниц: прочел он в той же книге:
«9 Ноембрия, память преподобной Феоктистии Лезвиянини. Видел ее некий ловец в пустыне и дал ей с себя поняву прикрыть наготу телесную; и стояла она перед ним, страшная, только подобие человеческое имевшая; и не видно в ней было плоти живой: от поста – одни кости да суставы, кожею прикрытые; волосы белые, как овечья волна, а лицо черно – мало нечто бледновато; очи глубоко западшие; и весь образ ее таков, как образ мертвеца, давно во гробе лежавшего. Едва дышала и тихо говорить могла. И не было на ней отнюдь лепоты человеческой».
«Значит, – подумал Евтихий, – не все, что свято, – лепо: есть и в поругании всей лепоты человеческой у великих подвижников, в зверином образе – образ ангельский».






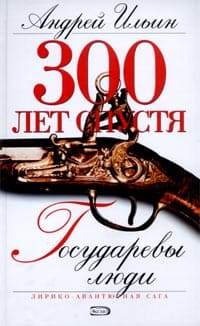 Ильин Андрей
Ильин Андрей Суворов Виктор
Суворов Виктор Шилова Юлия
Шилова Юлия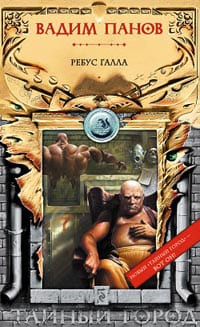 Панов Вадим
Панов Вадим Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия