| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ |
|
|
|
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ |
|
|
|
|
Кроме того, читая Донна или переводя, учишься взгляду на вещи. У Донна,
ну, не то чтоб я научился, но мне ужасно понравился этот перевод
небесного на земной, то есть перевод бесконечного в конечное... Это не
слишком долго?
[Померанцев:]
[Нет.]
[Бродский:]
Это довольно интересно, потому что тут массу еще можно сказать. На
самом деле, это как Цветаева говорила: "Голос правды небесной против
правды земной". Но на самом деле не столько "против", сколько перевод
правды небесной на язык правды земной, то есть явлений бесконечных в
язык конечный. И причем от этого оба выигрывают. Это всего лишь
приближение... как бы сказать... выражение серафического порядка.
Серафический порядок, будучи поименован, становится реальней. И это
замечательное взаимодействие и есть суть, хлеб поэзии.
[Померанцев:]
[Джона Донна советские историки литературы упрекали в
ретроградстве, в отходе от жизнеутверждающего ренессансного духа.
Насколько вообще "ретроградство" или "прогрессивность" имеют отношение
к поэзии?]
[Бродский:]
Ну, это детский сад... Когда мы говорим "Ренессанс", не совсем
понятно, что мы имеем в виду. Как правило, в голову приходят картины с
голыми телами, натурщиками, масса движения, богатство, избыток. Что-то
жизнерадостное. Но Ренессанс был периодом чрезвычайно нежизнерадостным.
Это было время колоссального духовного, идейного, какого угодно
разброда, политического прежде всего. В принципе, Ренессанс -- это
время, когда догматика... церковная, теологическая догматика перестала
устраивать человека, она стала объектом всяческих изысканий и допросов,
и вопросов. Это было связано с расцветом чисто мирских наук. Донн жил в
то время, когда -- дам один пример -- получила права на гражданство
гелиоцентрическая система, то есть когда Земля перестала быть центром
Вселенной. Центром стало Солнце, что произвело большое впечатление на
широкую публику. Примерно такое же впечатление произвело в наше время
расщепление атомного ядра. Ренессансу был присущ огромный
информационный взрыв, что нашло свое выражение в творчестве Джона
Донна. Он все время ссылается на достижения науки, на астрономию, на
все что угодно. Однако не стоит сводить Донна к содержанию, к его
научному и дидактическому багажу. Поэт занимается, в общем, переводом
одного на другое. Все попадает в его поле зрения -- это в конце концов
материал. Не язык его инструмент, а он инструмент языка. Сам язык
относится к материалу с известным равнодушием, а поэт -- слуга языка.
Иерархии между реальностями, в общем, не существует. И это одно из
самых поразительных ощущений, возникающих при чтении Донна: поэт -- не
личность, не персона... не то, что он вам навязывает или излагает
взгляды на мир, но как бы сквозь него говорит язык.
Как бы объяснить русскому человеку, что такое Донн? Я бы сказал
так: стилистически это такая комбинация Ломоносова, Державина и я бы
еще добавил Григория Сковороды с его речением из какого-то
стихотворения, перевода псалма, что ли: "Не лезь в коперниковы сферы,
воззри в духовные пещеры", да, или "душевные пещеры", что даже лучше. С
той лишь разницей, что Донн был более крупным поэтом, боюсь, чем все
трое вместе взятые. И для него антагонизма не существовало. То есть
антагонизм для него существовал как выражение антагонизма вообще в
мире, в природе, но не как конкретный антагонизм... Ну, про него вообще
можно много сказать. Он был поэт стилистически довольно шероховатый.
Кольридж сказал про него замечательную фразу. Он сказал, что читая
последователей Донна, поэтов работавших в литературе столетие спустя,
Драйдена, Попа и так далее, все сводишь к подсчету слогов, стоп, в то
время как читая Донна, измеряешь не количество слогов, но время. Этим и
занимался Донн в стихе. Это сродни мандельштамовским растягиваемым
цезурам, да, удержать мгновенье, остановить... которое по той или иной
причине кажется поэту прекрасным. Или, наоборот, как в "Воронежских
тетрадях" -- там тоже шероховатость, прыжки и усечение стоп, усечение
размера, горячка -- для того, чтобы ускорить или отменить мгновенье,
которое представляется ужасным. Эти вот качества одновременно
привлекали и отвращали от Донна. Его стилистика производила, конечно
же, несколько отталкивающее впечатление на читателей, которые были
настоены на Спенсере и предыдущей поэтике, которая возникла как реакция
на итальянскую поэтику, на все сонетные формы, на Петрарку и так далее.
Даже Шекспир был гладок по сравнению с Донном. И то, что последовало за
Донном, было тоже... как бы сказать... результатом гармонического
прогресса в языке. Современному англичанину или англичанину в 19-ом или
в 18-ом веках читать Донна также сложно и не очень приятно, как нам
читать Кантемира или Тредиаковского. Потому что мы воспринимаем этих
поэтов сквозь призму успехов гармонической школы Александра Сергеевича
и всех остальных. Да?
[Померанцев:]
[Но при этом поэты двадцатых-тридцатых, скажем, Элиот, смогли
разглядеть в Донне...]
[Бродский:]
Да.
[Померанцев:]
[...дух современности.]
[Бродский:]
Безусловно. Потому что Донн с его проблематикой, с его
неуверенностью, с разорванностью или раздвоенностью сознания -- поэт,
конечно же, современный. Его проблематика -- это проблематика человека
вообще, и особенно человека, живущего во время перенасыщенности
информацией, популяцией...
___
Интервью с Иосифом Бродским Свена Биркертса
Я беседовал с Иосифом Бродским в декабре 1979 года
в его нью-йоркской квартире в Гринич-Виллидже. Он был небрит и показался мне усталым и озабоченным. Как раз в эти дни он должен был прочесть гранки очередного издания своего сборника "Часть речи" и сказал, что уже пропустил все мыслимые сроки. Пол в кабинете был завален бумагами. Я предложил перенести интервью на более удобное время, но Бродский предпочел не откладывать.
Все стены и вообще все свободное пространство в его небольшой квартире занимали книги, открытки, фотографии. На нескольких я увидел молодого Бродского, Бродского вместе с Оденом, Спендером, Октавио Пасом, с друзьями. Над камином висели две фотографии в рамках, под стеклом: портрет Анны Ахматовой и Бродский с сыном, оставшимся в России.
Бродский налил себе и мне по чашке крепчайшего растворимого кофе и расположился в кресле у камина. В течение трех часов он просидел, почти не меняя позы, положив ногу на ногу и слегка наклонив голову к плечу. Иногда он клал правую руку на грудь, но чаще держал в ней сигарету. В камине постепенно копились окурки. Он редко докуривал сигарету до конца и кидал окурок в камин не глядя.
Своим ответом на первый вопрос он остался недоволен и несколько раз предлагал заново начать запись. Но минут через пять он как будто перестал обращать внимание на включенный магнитофон -- и даже на мое присутствие. Он увлекся, стал говорить все быстрее и оживленнее.
Голос у Бродского необычайно богатый, с отчетливым носовым призвуком. Надежда Мандельштам подробно описывает его во второй книге воспоминаний и заключает: "Это не человек, а духовой оркестр".
В середине беседы мы устроили перерыв. Бродский спросил, какое пиво я люблю, и вышел в ближайший магазин. Когда он возвращался, я услышал, как во дворе его окликнул кто-то из соседей: "Как дела, Иосиф? Ты, по-моему, теряешь в весе!" Бродский отозвался: "Не знаю, может быть. Волосы теряю -- это точно". И добавил: "И последний ум, кажется, тоже".
Когда мы все закончили, Бродский показался мне совсем другим, чем четыре часа назад. Усталое и озабоченное выражение пропало, он готов был говорить еще и еще. Но надо было возвращаться за письменный стол. "Я очень рад, что мы поработали", -- сказал он мне на прощанье и проводил до дверей со своим обычным "Пока, целую!".
Свен Биркертс
[Я хотел бы начать с цитаты из второй книги воспоминаний Надежды Мандельштам. Она сказала о вас: "...он славный малый, который, боюсь, плохо кончит".]
В каком-то смысле я и правда плохо кончил. В том смысле, что оказался вне русской литературы, был лишен возможности печататься в России. Думаю, однако, что Надежда Яковлевна имела в виду более конкретный плохой конец, скажем, физическую гибель. Мне же кажется, что для писателя запрет печататься на родном языке -- не менее страшное наказание.
[А у Ахматовой были на ваш счет какие-то предвидения?]
Может быть, но менее мрачные, поэтому я их не помню. Всегда ведь лучше запоминаются дурные предсказания -- они относятся непосредственно к твоей жизни, а не к работе, и поневоле врезаются в память. С другой стороны, понимаешь, что если впереди тебя и ждет что-то хорошее, то это может произойти с помощью божественного вмешательства, а оно человеку неподконтрольно: тут уж что будет, то и будет. Мы не знаем наперед, какое добро нам будет ниспослано, -- оно от нас не зависит. Вот зло, хотя бы отчасти, мы в состоянии попытаться предотвратить.
[Вы упомянули о божественном вмешательстве. В какой мере это для вас метафора?]
В большой. Для меня это прежде всего вмешательство языка, зависимость писателя от языка. Помните знаменитую строчку Одена о Йейтсе: "Mad Ireland hurt you into poetry..." "Втравить", "ввергнуть" в поэзию, вообще в литературу, способен именно язык, твое собственное чувство языка. Не философские или поэтические взгляды, не просто зуд творчества, свойственный юности.
[Иными словами, на вершину мироздания вы ставите язык?]
Но ведь язык действительно важен -- страшно важен! Когда говорят, что поэт слышит голос Музы, мало кто вдумывается в смысл этого заезженного выражения. А если попытаться его конкретизировать, станет ясно, что голос Музы -- это и есть голос языка. Поэт постоянно вступает в прямой контакт с языком, и только через язык реализуется его реакция на все услышанное или прочитанное.
[Мне кажется, что язык лежит в основе вашего ви'дения человеческой истории как процесса, который стремительно себя изживает. Вы полагаете, что история вот-вот упрется в некий безвыходный тупик?]
Не исключено. Я вообще не очень склонен разъяснять собственные взгляды. В этом есть какая-то нескромность, как во всякой самооценке. К тому же я не думаю, что человек способен беспристрастно судить о себе и тем более о собственном творчестве. Но в самом общем виде я сказал бы так: меня занимает прежде всего природа Времени. Мне интересно Время само по себе. И что' оно делает с человеком. Мы ведь видим в основном это проявление Времени, глубже нам проникнуть не дано.
[В своем эссе о Петербурге*(1) вы пишете, что воду можно рассматривать как сгущенную форму времени.]
Да, как одну из форм... Вообще я доволен этим очерком. Плохо только, что мне не дали прочесть корректуру, и в готовом тексте оказалась куча опечаток и ошибок -- неверных написаний и так далее. Очень обидно. Не потому, что я такой уж педант и крохобор, -- просто с английским языком у меня любовные отношения, и подобная небрежность меня огорчает.
[Кстати об английском. Что бы вы могли сказать о себе как о переводчике собственных стихов? Вы переводите -- или пишете заново?]
Заново, разумеется, не пишу. Правда, многие чужие переводы я исправляю и уточняю -- переводчики за это очень на меня сердятся, -- потому что пытаюсь в переводном тексте воспроизвести даже слабости оригинала. Вообще перечитывать свои старые стихи -- тяжкое испытание. И еще более тяжкое -- переводить их. И прежде чем за это взяться, надо остыть, в какой-то степени отрешиться от авторства, посмотреть на свое создание со стороны -- "как души смотрят с высоты / На ими брошенное тело". С этой высоты чаще всего видишь бренные останки, уже тронутые разложением. Вас с ними мало что связывает. Тем не менее, взявшись переводить, ты обязан передать цвет каждого листочка на дереве -- неважно, яркий он или тусклый. Ты видишь, что в подлиннике некоторые строки явно уродливы, но, может быть, в свое время ты написал так не случайно -- это могло входить в какой-то твой первоначальный замысел. Слабые строки тоже выполняют в стихах определенную функцию, облегчают читателю путь к восприятию других, более важных мест.
[Вы сильно придираетесь к своим английским переводчикам?]
Мы в основном расходимся из-за того, что я отстаиваю точность, а переводы часто грешат неточностью, и это вполне можно понять. Ужасно трудно объяснить переводчику, какая именно мера точности меня устраивает. И чем биться над этим и тратить нервы, я подумал -- не лучше ли самому попробовать себя переводить? Особого риска тут нет: по-русски стихотворение все равно существует. Худо ли, хорошо ли, оно уже написано и никуда не денется. Мои русские лавры -- или их отсутствие -- вполне меня устраивают. Почетного места на американском Парнасе я не добиваюсь. Во многих переводах моих стихов меня смущает то, что они неважно звучат по-английски. Может быть, я проявляю здесь чрезмерную требовательность -- ведь мой роман с английским языком начался сравнительно недавно, он мне еще в новинку. И неудавшаяся русская строчка беспокоит меня гораздо меньше, чем строчка, которая не получилась по-английски.
Некоторые переводчики к тому же привносят в текст собственные поэтические принципы. И многие крайне упрощенно понимают модернизм. Для них основной закон современной поэзии -- свобода без всяких ограничений. Я же предпочитаю такой свободе, или, вернее, такой распущенности и расхлябанности, традиционность, даже банальность. По мне лучше штамп, но классический штамп, чем изощренная расхлябанность.
[Вас переводили первоклассные мастера...]
Да, несколько раз мне повезло. Меня переводили и Ричард Уилбер, и Энтони Гехт...*(2)
[Я не так давно был на встрече с Уилбером, и он рассказывал слушателям -- по-моему, довольно язвительно, -- как вы с Дереком Уолкоттом летели над Айовой и вы правили его перевод одного вашего стихотворения. Он как будто был не в восторге?]
Все верно. Но перевод от правки выиграл, а мое уважение к Дереку еще выросло. Некоторые места я просил его переделывать по два, по три раза -- и в какой-то момент понял: всT, больше нельзя, пора остановиться. Но и в таком, не доведенном до совершенства виде получилось прекрасно. Примерно те же чувства я испытал, когда на предложение Одена переводить мои стихи ответил "нет". Я тогда подумал: "Кто я такой, чтобы меня переводил Уистан Оден?!"
[Любопытная ситуация: поэт сознает, что недостоин своего переводчика! Обычно бывает наоборот.]
А у меня было именно так. И по отношению к Дику Уилберу я чувствовал то же самое.
[Когда вы начали писать?]
Лет в восемнадцать -- девятнадцать. Но серьезно к этому относиться стал позже, года в двадцать три. Мне иногда говорят: "Свои лучшие стихи ты написал в девятнадцать". Сам я так не считаю. Я не Рембо.
[Какой круг чтения был у вас тогда, кого из американских поэтов вы знали? Доводилось вам слышать о Фросте, о Лоуэлле?]
Нет. Но постепенно я с ними познакомился -- сначала по-русски, потом по-английски. В двадцать два года я впервые столкнулся с Фростом. Ко мне попали переводы его стихов -- не книга, а машинописный текст, кто-то из знакомых дал почитать, тогда стихи ходили по рукам в таком виде. Я прочел и был потрясен -- такой там был накал энергии, сдержанной страстности. Извечный, экзистенциальный страх, он все пронизывал. Я долго не мог прийти в себя. И решил докопаться до истины -- проверить, действительно ли переводчик следует оригиналу или это он сам пишет такие гениальные стихи по-русски. Я стал штудировать текст Фроста -- в той мере, в какой позволяло мое тогдашнее знание английского, -- и оказалось, что все это заложено в подлиннике. С Фроста все, собственно, и началось.
[А кого вы до этого изучали в школе? Гете, Шиллера?]
В школе был стандартный набор, с ориентацией на девятнадцатый век, на классику: Байрон, Лонгфелло... О таких поэтах, как Эмили Дикинсон или Хопкинс, никто и слыхом не слыхал. Зарубежная поэзия сводилась к двум-трем именам.
[А имя Элиота было вам известно?]
Все знали, что существует такой поэт -- Элиот, но читать его мало кому приходилось. Первые русские переводы из Элиота появились в тридцатых годах, тогда вышла небольшая антология английской поэзии.*(3) Переводы были очень неудачные. Но репутацию Элиота мы знали и вычитывали из этих русских строк больше, чем там было. Вот так... Кстати, после выхода антологии многих ее участников арестовали, а саму книжку изъяли из обращения.
Я вооружился словарем и стал осваивать английский -- и постепенно проработал эту антологию от корки до корки. Читал и сравнивал, буквально строчку за строчкой. Мне не терпелось расширить круг чтения: русскую поэзию годам к двадцати трем я в общем знал. Не то чтобы я успел изучить ее досконально или она перестала меня удовлетворять -- просто к тому времени я почти все прочел, тянуло к новому.
[Тогда вы и начали переводить?]
Переводить я начал для заработка. Сперва взялся за братьев-славян -- чехов, поляков, потом двинулся дальше на Запад, стал переводить с испанского.*(4) Художественный перевод как вид литературной деятельности в России довольно популярен; существует целая индустрия перевода, и всегда найдутся поэты, незнакомые русскому читателю. Встретишь новое имя в каком-нибудь предисловии или рецензии -- и сразу мысль: а почему бы этого автора не перевести? И тогда принимаешься разыскивать его стихи.
Потом я стал пробовать переводить с английского, прежде всего Джона Донна. Когда меня отправили в ссылку на Север, я получил в подарок от друзей две или три антологии американской поэзии -- знаете, такие карманные издания под редакцией Оскара Уильямса,*(5) с крохотными портретами авторов на обложках. Я в эти томики просто влюбился. Влюбленность в чужую культуру, в чужой мир особенно обостряется, если знаешь, что своими собственными глазами ты их никогда не увидишь. Вот всем этим я и занимался -- читал, переводил, пытался по мере сил приблизиться к оригиналу... и в конце концов оказался в непосредственной близости от своих авторов (смеется). Можно сказать, слишком близко.
[И что же вы испытали, оказавшись так близко? Разочаровались в ком-нибудь? Изменилось ли ваше отношение к Донну, к Фросту?]
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [ 100 ] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
|
|




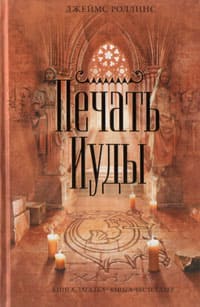

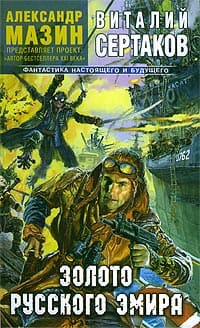 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Посняков Андрей
Посняков Андрей Контровский Владимир
Контровский Владимир Березин Федор
Березин Федор Пехов Алексей
Пехов Алексей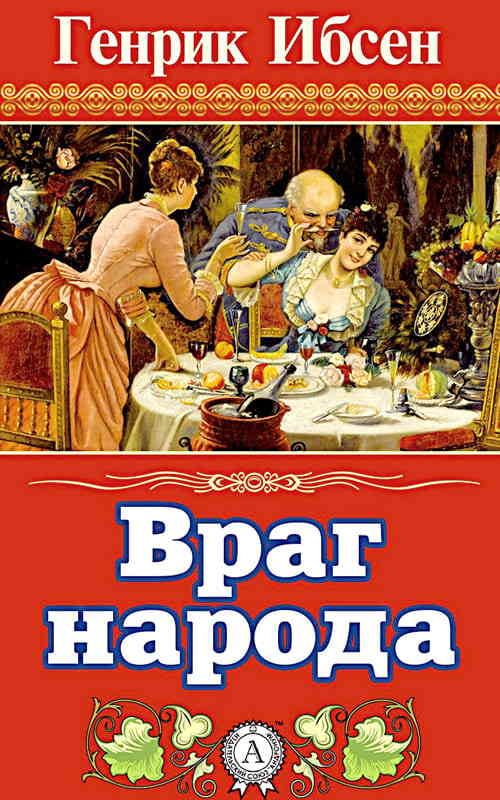 Ибсен Генрик
Ибсен Генрик