переваливается через бруствер и падает в укрытие. Следом бьют несколько
пуль, но мимо.
видно, наших лет парень. Широко раскинув руки, он тяжело стонет.
Комбинезон его весь в пропалинах. От немца несет смрадом жженой одежды,
местами на ней еще курится дым. С чувством гадливости я оглядываю этот
живой труп, потом начинаю обшаривать широкие карманы его комбинезона,
вынимаю из одного гаечный ключ, круглую из красной пластмассы масленку,
клочок пакли. Фляги у немца нет, патронов тоже.
сапогом в бок, чтобы отодвинуть подальше.
Желтых, Панасюк, Попов, умирает Лукьянов; может, кого-то из них убил
именно этот фашист. Он и ему подобные залили всю землю кровью, украли у
нас молодость, страданием переполнили наши души..."
мышки, немного оттаскивает и кладет рядом с Поповым.
немец стонет и будто в ознобе дрожит. Девушка ловко расстегивает на его
груди "молнию", на кармане мундира - черный "железный крест". Этот крест
вызывает острую неприязнь к танкисту. Я срываю крест, бросаю за бруствер,
потом обшариваю карманы мундира. Там множество разных книжечек, бумажек,
несколько потертых писем в узеньких конвертах, сломанная авторучка и
расческа в металлическом футляре.
увидеть в этом танкисте виновника всей нашей сегодняшней трагедии, хотя в
бумажках немного поймешь - одни цифры, номера, немецкие слова, написанные
неразборчивой скорописью, и всюду свастика, орлы, синие, красные печати.
Но вот завернутые в целлофан снимки. На первом - улица какого-то
аккуратного немецкого городка с островерхими крышами. "Грейфсвальд" -
написано внизу. На втором - группа юношей на стадионе, возле переднего на
траве футбольный мяч. Наверное, среди них и этот танкист. На третьем -
улыбающаяся блондинка с локонами до плеч. Она довольно мила, и, если бы не
слишком вздернутый нос, я бы сказал, что она красива. Четвертый снимок
заставляет меня задуматься.
в мундире, и на выпяченной его груди чернеет, видно, тот самый сорванный
мною крест. Глаза немца, однако, невесело поглядывают куда-то на мое ухо.
Рядом в кресле сидит немолодая уже, одетая в траур женщина. Лицо ее
грустно, почти заплакано, в глазах боль. Чем-то не нашим, далеким, чужим,
но и понятным веет от снимка, и я стараюсь разобрать несколько строк на
обороте:
daran denken. Sei vorsichtig. Du bist meiner, du gehorst nicht dem
Ofizier, nicht dem General oder dem Fuhrer. Sondern mir allein. Du bist
meiner, meiner! Deine Mutter. 29/III, 44" ["Мой милый мальчик! Ты у меня
остался последним, и ты должен помнить об этом. Будь осторожен. Ты мой. Ты
не принадлежишь ни офицеру, ни генералу, ни фюреру - только мне. Ты мой,
мой! Твоя мама" (нем.)].
знаний хватает. И эти синими чернилами выведенные слова на минуту вызывают
во мне замешательство. Как это просто, но я никогда не думал, что у моего
врага вдруг окажется мать, опечаленная пожилая женщина, которая так
неожиданно встанет меж нами. Она любит его, последнего, и, видно, как
всякая мать, полна опасений, чтобы не случилось то самое худшее, что
случается на войне. Понятно, она родила его, вырастила, радовалась его
первым шагам и первым словам... Заботилась, чтобы он хорошо учился, не
имел двоек и чтобы не простуживался, не болел, не попал в беду. Так же,
как и моя, и Люсина, и Попова, и Лукьянова, как миллионы матерей на земле.
И может, он хороший сын, и любит ее, и еще любит эту девушку. Так что же
выходит? Неужто он добрый, покладистый парень? И убил Попова, Желтых,
Панасюка, ранил Лукьянова? Нет! Он фашист! Сволочь! Он тоже продал Гитлеру
душу. Он враг. Иначе зачем он пришел сюда?
обалдел и чего-то не могу понять.
же это такое? До каких пор? Мне опять хочется закричать, завыть, страшно
выругаться...
удержать собственного сына. Хватит того, что ты родила его, взрастила и
сдала в солдаты. В стране, где царит дьявол, люди - тоже собственность!
Его бредовые идеи они должны оплачивать кровью и жизнями. Возьми теперь,
фрау, своего сына, забирай этого "недогарка".
собой поднебесье, он растекается во всю ширь земли. В тревоге опять
сжимается сердце. Конечно, это немецкие самолеты. Они идут на деревню.
Идут ровно и тяжело, будто ползут, по-гусиному поджав короткие
лапы-колеса. Их много, и я не считаю их. Я вижу только, как трое с хвоста
этого каравана ложатся на крыло и, коротко блеснув пропеллерами,
сворачивают на нас...
20
меня от стены укрытия. Всем телом ощущая неотвратимую опасность, я толкаю
Люсю в угол, и в тот же момент первая бомба выбивает из-под ног землю.
Взрывы обрушивают на нас поднятые из глубины тяжелые глыбы земли. Гаснет
солнце. Воздух разрывают тугие пыльные волны. Сплошь песок, огонь и лютый
ад взрывов. Обхватив руками голову, я жмусь в угол, как могу, прикрываю
Люсю, придерживая меж коленей автомат. При каждом взрыве девушка
вздрагивает, так же вздрагивает земля, дрожу и я. Видно, нет такой
человеческой силы, которая бы устояла перед страшной силой взрыва. Бомбы
рвутся по три сразу. "Тр-р-рах! Тр-р-рах!" Кажется, земля вот-вот хрястнет
всей своей толщей и, как огромная перезрелая тыква, развалится на две
половинки.
песка, поднятого бомбами, в одной стороне рев глохнет, но сразу нарастает
в другой. Я не знаю, жива ли Люся, она сжалась за моей спиной. Сквозь пыль
не видно самолетов, но, кажется, они уже входят в пике. Слышно, как
отрываются и с визгом летят на нас бомбы. "Тр-р-рах!" - бьет где-то по
окопу Кривенка. "Пропал парень", - мелькает мысль. Сразу же снова визг и -
"тр-р-рах!" Второго взрыва почему-то нет, может, бомба не взорвалась? Я
жду захода третьего пикировщика. Пока мы живы, но неужели погибнем от
последнего взрыва? Должны же у них кончиться, наконец, эти проклятые
бомбы.
заходит со стороны солнца. Но вот опять по изрытой огневой стремительно
мелькает тень и пронзительно визжат бомбы. Они рвутся где-то в стороне, и
у меня появляется надежда - уцелели! Я еще боюсь поверить этому, но гул
отдаляется. Теперь надо ждать пехоту. Я отстраняюсь от Люси, она
вскидывает голову - с ее волос сыплется песок, оба мы по пояс в земле.
Убитым также досталось, у Панасюка осколком распорот ботинок, из него
вылез клок грязной портянки.
завалило землей. Подбитая пушка скособочилась, одна станина задралась
сошником вверх.
как болтаются в воздухе ремни их автоматов. Двое ближних, пригибаясь,
опасливо поглядывают в нашу сторону. Я дергаю рукоятку и, быстро
прицелившись, стреляю раз, второй, третий. Однако немцы бегут. Видно,
автоматом их не возьмешь. Но почему молчит пулемет? Неужели?..
черный как цыган, осатанело глядит на меня. Рот его открыт, на лице
гримаса отчаяния.
у меня содрогается сердце, и вскакивает. Он вытаскивает из земли свои
босые, без сапог, ноги и, шатаясь, вылезает из окопа. Пулемета его не
видно.
он, вваливаясь в наше разрушенное укрытие.
гранаты, Люсин автомат.
на бруствер.
колени и вперяет в меня обезумевший взгляд:
Геройство? Тот в тылу герой! Ты - тут! Это она все наделала! - размахивая
кулаками, кричит он на Люсю; на губах его пена. - Зачем ты прибежала? Кого
ты жалеешь? Его? Нас? Ты - мучительница! Гадина ты, вот! Ух, сволочи,


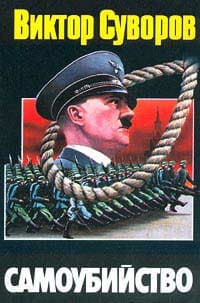
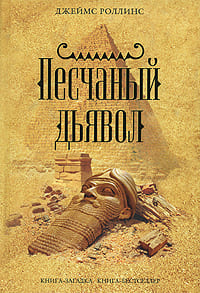


 Прозоров Александр
Прозоров Александр Акунин Борис
Акунин Борис Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте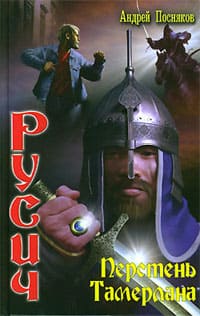 Посняков Андрей
Посняков Андрей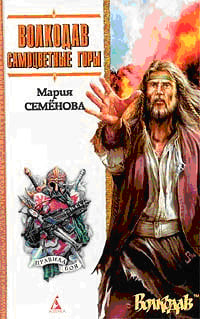 Семенова Мария
Семенова Мария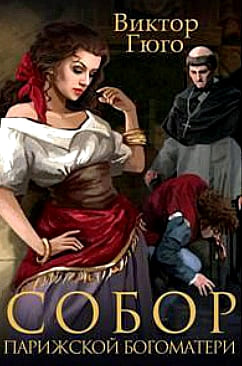 Гюго Виктор
Гюго Виктор