неплохие ребята - товарищи. Но вы знаете, что такое русские после
нескольких стаканов водки.
сверкающие острые здоровые зубы, влажные от слюны. Беда была в том, что он
часто лупил Шулу-Славу, даже во время медового месяца. Старик Сэммлер из
окон тесной, пахнущей камнем и известкой хайфской квартирки разглядывал
пальмовые ветви, неподвижные в горячем прозрачном воздухе. Шула готовила
обеды по мексиканской поваренной книге, замешивала горьковатый шоколадный
соус, втирала кокосовые орехи в куриные грудки и жаловалась, что в Хайфе
невозможно купить мексиканские специи.
решил пойти повидать Папу Римского. Я вырубил сук и пошел в Италию. Этот
сук был моим посохом, понимаете?
Элии Гранера. Но все же он посетил Назарет и взял такси до Галилеи,
исключительно из исторического интереса, раз уж все равно был поблизости.
На засыпанной песком дороге он встретил гаучо. В широкополой шляпе,
завязанной под могучим подбородком, в аргентинских широченных штанах,
заправленных в сапоги, с усами Дугласа Фербенкса, тот месил корм для
маленьких существ, копошившихся вокруг него в отгороженном проволокой
загоне. Из шланга текла вода, чистая и прозрачная на солнце, она смачивала
желтое месиво, пятная его оранжевым. Откормленные маленькие твари были
весьма проворны, они были тяжеленькие, в блестящих шубках, пушистых и
влажных. Это были нутрии. Их мех шел на шапки в холодном климате. И на
дамские шубки. Мистер Сэммлер, докрасна загорелый на галилейском солнце,
подверг гаучо допросу. Он задавал вопросы рокочущим басом знатного
путешественника - зажав сигарету волосатыми пальцами, пуская дым из
волосатых ноздрей. Ни один из них не говорил на иврите. Как, впрочем, и на
языке Иисуса. Мистер Сэммлер припомнил итальянский, который хозяин нутрий
воспринимал из своей аргентинской темноты, его тяжелое красивое лицо
задумчиво склонялось к жадным тварям, суетящимся у его ног. Он был
бессарабско-сирийский латиноамериканец, говорящий по-испански, израильский
пастух из пампасов. Сэммлер пожелал узнать, сам ли он забивает своих
маленьких питомцев. Его итальянский никогда не был особенно хорош.
убивает их ударом палки по голове.
он знает их с детства, разве нет у него индивидуальных привязанностей,
любимцев, так сказать? Гаучо пожал плечами. Он отрицательно покачал
красивой головой. Он сказал, что нутрии очень глупые.
синагоге. Вдали видна была гора Фавор. Двух глаз было бы недостаточно,
чтобы охватить густоту и гладкость ровного цветного фона, кое-где с трудом
рассекаемого рыбачьими лодками. Вода синяя, необычно вязкая и тяжелая,
словно утекала куда-то под голые Голанские высоты. И сердце мистера
Сэммлера разрывалось от противоречивых чувств, пока он стоял под низкими,
струистолистыми банановыми деревьями.
ни в коей мере не были зелеными; они были коричнево-красные, с дымными
ущельями, и тайна нечеловеческих сил пламенела над ними.
последовательно во времени и в пространстве, соответственно своей
религиозной и эстетической значимости, но человечество страдало от
непоследовательности, от смешения стилей, от слишком долгой жизни,
состоящей из нескольких отдельных жизней. В сущности, весь опыт
человечества перекрывал сейчас каждую отдельную жизнь в ее течении. Делая
все исторические эпохи одновременными. Вынуждая хрупкую личность только
получать и регистрировать своим обычным объемом, своей массой, лишая ее
возможности передать знание, осуществить замысел.
спустя он поехал туда вновь, уже с другой целью.
ее, утверждая, что она врунья, что она бегает к католическим священникам
(ложь приводила его в ярость; Сэммлер заметил, что параноики более рьяные
защитники истинной правды, чем другие безумцы), она занялась в Нью-Йорке
домашним хозяйством. Иными словами, она создала еще один центр беспорядка
в Новом Свете. Мистер Сэммлер, этот вежливый Хитрый Джимми (кличка, данная
ему доктором Гранером), этот снисходительный отец, восторженно
расхваливающий любой хлам, который ему дарили, иногда вдруг взрывался,
приходил в ярость. И действительно, он требовал от боннского правительства
компенсации не только за потерянный глаз, но и за ущерб, причиненный его
нервной системе. Приступы гнева, очень редкие, но разрушительные,
приводили к тяжелейшим мигреням, к депрессивному послеэпилептическому
состоянию. После таких приступов он подолгу лежал в темной комнате,
скорчившись, стиснув руки на груди, измученный, страдающий, неспособный
ответить, когда к нему обращались. У него было несколько таких приступов
из-за Шулы-Славы. Во-первых, он возненавидел дом, в котором их поселил
Гранер, дом с каменным крыльцом, крутыми ступенями, сбегающими с одной
стороны к подвальной лестнице соседней китайский прачечной. Вестибюль
вызывал у него тошноту, изразцы, как желтые зубы, скалились в улыбке
отчаяния, из шахты лифта воняло. Шула держала в ванной пасхального
цыпленка, пока он не превратился в курицу, кудахчущую на краю ванны.
Рождественские украшения висели до весны. Сами комнаты напоминали пыльные
красные рождественские колокола из гофрированной бумаги. Однажды он
обнаружил желтоногую курицу у себя в кабинете среди книг и бумаг - это
было слишком. Он сознавал, что солнце сверкало ярко, что небо было синим,
но тяжелая туша многоквартирного дома в каменных барочных кружевах
навалилась на него, а его комната на двенадцатом этаже представилась ему
комнатой пыток, в которой он был заперт, и он завизжал при виде
дьявольских куриных желтых сморщенных ног, рвущих когтями его бумаги.
рассказывать всем встречным, что жить с ним тяжело, так как он пишет
мемуары о Герберте Уэллсе, которые она называла трудом его жизни. Герберт
Уэллс был ее страстным увлечением и кумиром. Герберт Уэллс был самым
великим представителем рода человеческого, с которым она была знакома. Она
была маленькой девочкой, когда жила с родителями в Блумсбери на
Вобурн-сквер, и с гениальным детским прозрением угадала их истинные
страсти: их гордость знакомствами с высокопоставленными людьми, их
снобизм, их упоение своими успехами в культурных кругах Англии. Старый
Сэммлер вспоминал свою жену тех предвоенных дней в Блумсбери, ее манеру
спокойным, задушевным голосом сообщать - с тем поглаживающим движением
руки, в котором лишь хорошо знающие ее могли угадать хвастливый жест: мы
очень-очень близки с самыми замечательными людьми Великобритании. Мелкий
грех, - можно сказать, полезный для пищеварения, - он окрашивал щеки
Антонины ярче, смягчал ее кожу. Если маленькое восхождение по социальной
лестнице делало ее краше (мягче между ног - мыслишка сама выскочила на
свет; Сэммлер давно уже не пытался отгонять эти каверзы подсознания),
значит, оно заслуживало снисхождения как признак женственности. Любовь -
это самая действенная косметика, но есть и другие. И конечно, маленькая
девочка не могла не заметить, как простое упоминание имени Уэллса
оказывало социально-эротическое воздействие на мать. Хоть Сэммлер никогда
не судил Уэллса строго и вспоминал о нем с уважением, он знал, однако, что
тот был крепкий мужик, отличавшийся особой, необычайной чувственностью.
Как биолог, как социальный мыслитель, озабоченный мировыми проектами,
вопросами власти и созданием универсального порядка, как поставщик
интерпретаций и идей для образованных масс - он, по-видимому, нуждался в
большом количестве совокуплений. Теперь Сэммлер часто думал о нем как о
мелком соблазнителе из низших классов, как о человеке с угасающими
возможностями и убывающей привлекательностью в агонии расставания с
грудями, губами, со сладкими бесценными сексуальными флюидами. Бедный
Уэллс, этот прирожденный учитель, борец за сексуальную эмансипацию,
пророк, благословляющий человека, к концу жизни мог только проклинать все
и вся. Конечно, свои последние вещи он писал совершенно больной,
подавленный ужасом Второй мировой войны.
Сэммлеру через Анджелу Гранер. У Анджелы была идеальная для прелестной,
богатой, свободной молодой женщины квартирка на Шестидесятой улице к
востоку от Центрального парка, куда частенько захаживала Шула. Жизнь
Анджелы восхищала ее. Очевидно, без всякой зависти, нисколько не осознавая
собственного несоответствия обстановке, она неуклюже усаживалась среди
изысканного комфорта Анджелиных драпировок, пачкая губной помадой
прозрачный фарфор и столовое серебро, в своем парике, с хозяйственной
сумкой, с белым, искаженным постоянным вдохновением лицом (она то и дело
слушала и сообщала другим известия из иных миров). По словам Шулы, ее отец
в течение долгих лет вел серьезный разговор с Гербертом Уэллсом. Свои
записи он в 1939 году взял в Польшу, надеясь, что там у него будет
свободное время для писания мемуаров. Тут как раз Польшу разрушило
взрывом. В гейзере, который поднялся к небу на одну-две мили, были и
папины бумаги. Но (с его-то памятью!) он, конечно, помнил все наизусть, и





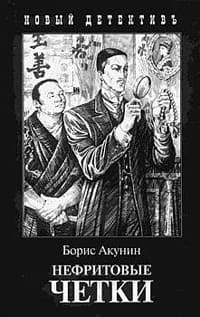
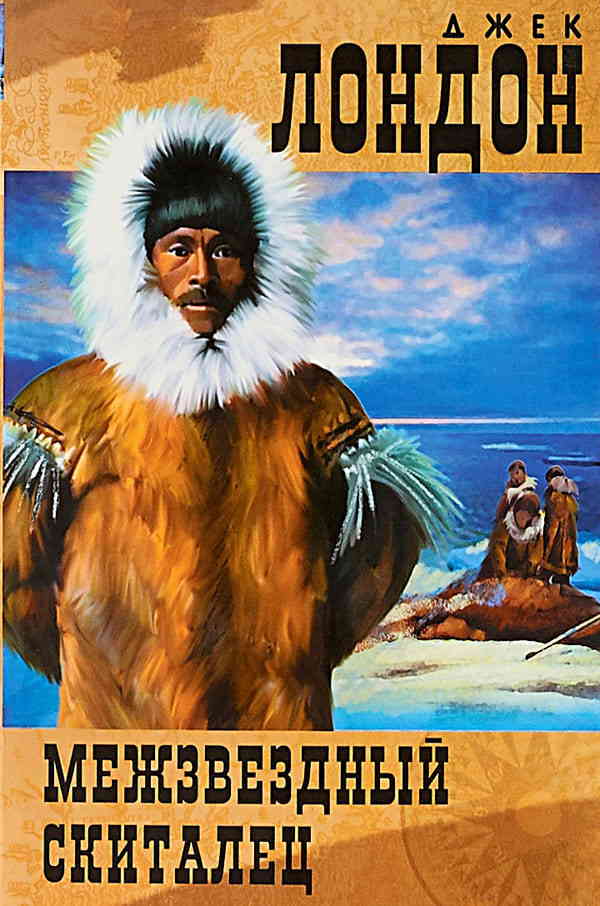 Лондон Джек
Лондон Джек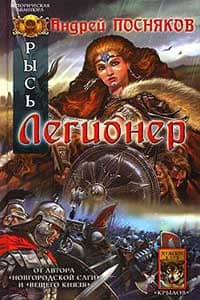 Посняков Андрей
Посняков Андрей Каменистый Артем
Каменистый Артем Василенко Иван
Василенко Иван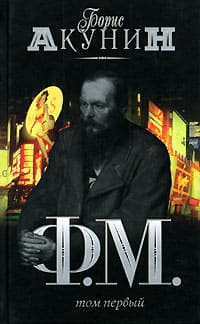 Акунин Борис
Акунин Борис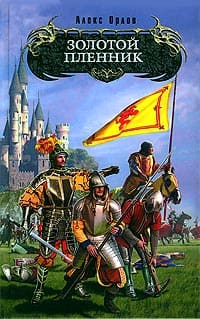 Орлов Алекс
Орлов Алекс