козырьком, потому что во время молитвы надо касаться лбом пола, не обнажая
головы. Так что нынешние кепки -- яркий знак вольнодумства страны. Кепка как
инакомыслие: ничего для нас удивительного -- а узкие брюки, а длинные волосы?
"пиджачная цивилизация", которой страшился Константин Леонтьев, не догадываясь
о ее будущем реальном облике, -- он-то имел в виду пиджаки парижских буржуа.
Увидел бы эти в своем любимом Константинополе -- отрекся бы от тезки-города.
тосковал всю жизнь; не то, что привлекало Байрона, бывшего для Леонтьева
образцом. "Пишут поэзию, а сами ее не соблюдают в жизни ... Очень некрасива
физически нынешняя слава писателей. Вот слава и жизнь -- это Байрона... Этому
можно и позавидовать, и порадоваться. Странствия в далеких местах Турции,
фантастические костюмы, оригинальный образ жизни, молодость, красота,
известность такая, что одной поэмы расходилось в 2 недели 40 000
экземпляров... Сама ранняя смерть в Миссалонгах, хотя и не в бою, -- венец
этой прекрасной, хотя, разумеется, нехристианской жизни".
истинного очень вреден" -- языческой красотой жизни и отношения к жизни, надо
думать. Но "вредность" Байрона -- это уже леонтьевский предпоследний год,
Оптина пустынь, перед пострижением. Прежде он скорбел о тщетности великолепных
Байроновых усилий, о том, что он выбрал не ту сторону баррикад: "...Интересная
Греция "Корсара"... -- есть лишь плод азиатского давления, спасительного для
поэзии, и освобожденный от турка корсар наденет дешевый сюртучишко и пойдет
болтать всякий вздор на скамьях афинской "говорильни".
часто насиловали, грабили, убивали, казнили ... пока христианин был собака, он
был более человек". Леонтьевская "цветущая сложность" более всего страшится
пиджака и носителей пиджака, которые пытаются "разлитием всемирного равенства
и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре
уже совсем невозможной...".
Бродским -- опыт ХХ века, с его страшными героями, масштабы и деяния которых
не мнились деспотам Востока. "Цветущая сложность" оборачивалась таким образом,
что единственным -- бескровным и достойным -- противовесом оказывалась
"пиджачная цивилизация".
декларативным заглавием "Похвала скуке", в американских стихах, которые он
однажды прокомментировал: "Ощущение скуки, которое здесь описано,
действительное. Но это было и замечательно. Мне именно это и нравилось. Жизнь
на самом деле скучна. В ней процент монотонного выше, чем процент
экстраординарного. И в монотонности, вот в этой скуке -- гораздо больше
правды, хотя бы Чехова можно вспомнить ... В этой скуке есть прелесть. Когда
тебя оставляют в покое, ты становишься частью пейзажа... Нам всT пытаются
доказать, что мы -- центр существования, что о нас кто-то думает, что мы в
каком-то кино в главной роли. Ничего подобного".
Что оказалась длинной". В этих словах -- и ужас, и восторг, и гордость, и
смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим вершины. Взгляд
поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлые, настоящие, будущие
равнины и низменности -- идти по которым трудно и скучно, но надо.
антилеонтьевским. Антибайроновским, в конечном счете.
версии своего эссе стихотворение Йейтса, по-иному истолковал дух времени, о
котором в йейтсовском "Плавании в Византию" сказано -- "рукотворная вечность".
Город, так напоминающий об империи к северу -- империи, по всем тогдашним
признакам вечной, -- размещен на пространстве, которое вызывает физическое
отвращение автора, он не жалеет эпитетов и деталей, описывая шум, грязь и
особенно пыль.
несущественней: ставка на пространство -- характеристика кочевника,
завоевателя, разрушителя; на время -- цивилизатора, философа, поэта. К тому же
стамбульское пространство присыпано пылью. В "Путешествии" навязчива тема пыли
-- вещи, безусловно, негативной, противной. Однако вспомним, что в стихах
Бродского пыль именуется "загар эпох". Время у него отождествляется чаще всего
с тремя материальными субстанциями, способными покрывать пространство: это
пыль, снег и вода. Снег в Стамбуле редкость, но воды и пыли -- сколько угодно.
Времени на Босфоре -- в избытке. То есть -- истории.
Ататюрка, но не жалко, потому что после вспоминаешь. Помимо родных ощущений,
поучительно и смешно: следуя заветам Ататюрковых секулярных преобразований,
преемники так увлеклись истреблением исламских аллюзий, что мемориал получился
фантазией на тему греческого храма.
привыкнуть к этой книжной античности непросто. Звонишь в справочную, чтоб
уточнить номер, барышня спрашивает: "Стамбул-Анатолия или Стамбул-Фракия?"
монотонность ландшафта каждые тридцать километров прерывается руинами
караван-сараев, мимо огромного соляного озера, на берегу которого стоит
сувенирный сарай, торгующий комками соли на память, -- к плато Юргуп, к долине
ГTреме.
вулканического туфа обдувались ветрами и веками, превращаясь в то, что кажется
фокусами Антонио Гауди, -- в фигуры причудливых плавных очертаний, которые,
за неимением леса, служили укрытием и жильем. Дерево шло только на двери. В
этих скалах вырубали квартиры и целые многоквартирные дома со времен хеттов.
Но особенно здешнее жилищное строительство процвело с приходом ранних
христиан, и Каппадокия связана с именами отцов церкви -- Василия Великого,
Григория Нисского, Григория Назианзина. Камень, как бы мягок он ни был,
долговечнее других строительных материалов: скальные и подземные дома, склады,
церкви, города на тысячи обитателей -- уцелели.
Ликаонию, Фригию, Лидию -- к морю. Фантастический пятачок жилых скал остается
позади, слева отдаленным фоном -- высокий Таврийский хребет, впереди и вокруг
-- ровно. Только уж совсем на западе, в близости моря, где среди хлопковых
полей вьется чуждым здесь греческим орнаментом полувысохший Меандр, появляются
оливы, дубы, жидковатые сосны, персиковые сады, холмы.
двухсот-, трехсоттысячные города -- и уходят назад, как марево. Вдруг
понимаешь, что страна сопоставима с гигантским соседом к северу, который
теперь не такой уж гигант, а турецких 65 миллионов -- это больше Британии,
Италии, Франции. Некстати вспомнил, как в армии, в отдельном полку
радиоразведки, подслушивал переговоры натовских баз, в том числе здесь, в
Турции: в Измире, в Инджирлыке. Майор Кусков тычет в карту: "Гнезда,
понимаете, свили под самым носом, названия, понимаете, даже противные --
Инжырлик!"
когда пошлют туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, -- это здесь.
о том, что за ним море, с юга так все и нависает Тавр. Неказистые деревни,
кладбища с обелисками, кощунственно напоминающими манекены в шляпных
магазинах, придорожные мазанки с пышным именем "Бахчисарай" на кривой вывеске
и неизменным кебабом из замечательной, как во всей стране, баранины. Редкие
деревья вспыхивают, словно огоньки светофоров, которых нет в помине.
За тыквами? Десятки километров полей с полосатыми эллипсоидами и желтыми
шарами, которые столетиями покрывают эту землю. И глинобитные домики были
точно такие, и, задумчиво расслабившись, не сразу замечаешь на крышах
сателлитные тарелки и солнечные батареи (установка 150 долларов -- и полгода
без забот). Ну да, сейчас приходят за дынями: Турция завалила Восток материей
и кожей, а Запад -- консервами и фруктами.
империй. В этих пустых местах был наместником Цицерон, здесь Кир бился с
Артаксерксом, Сулла с Митридатом, арабы с византийцами, здесь проходили
гоплиты и пелтасты Ксенофонта, который написал об этом походе "Анабазис" --
великую книгу, простую и волнующую. Сюда поместил Бродский действие своего
стихотворения о природе и истории, о природе истории -- "Каппадокия".
завоеваний, а теперь -- большой новый город, бурлящий вокруг изумрудного
купола мавзолея Мевланы, центра секты кружащихся дервишей. Увидеть их в
действии нелегко, но может повезти.
завораживает. Под резкие звуки саза дервиши разворачиваются, как бутоны.
Вращение начинается медленно, со скрещенными на груди руками, скорость
нарастает, руки разводятся в стороны -- правая ладонь раскрыта вверх, к Богу,
левая повернута вниз, к людям, все через себя, для себя ничего -- ноги
переступают, как в балетном фуэте, фалды длинных разноцветных кафтанов
взметаются лепестками, образуя подрагивающие круги, колпаки-пестики кажутся
неподвижными, только мелькает в кружении отрешенное лицо с остановившимся
взглядом. Волчки Аллаха. Живой ковер. Пестрые цветы экстаза.
поэт, которого так охотно сравнивали с дервишем, с юродивым, чей смысл -- быть
бездумным проводником (ладонь вверх, ладонь вниз) божественного глагола.
Остается только то, что заметил художник: "...Полотно -- стезя попасть туда,
куда нельзя попасть иначе" ("Ritratto di donna" -- "Портрет женщины").


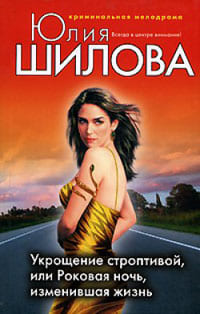



 Орлов Алекс
Орлов Алекс Никитин Юрий
Никитин Юрий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия Маркелов Олег
Маркелов Олег Корнев Павел
Корнев Павел