напала сонливость, в этом кафе мне было так же спокойно, как в "Липах" у
мадам Бюффа. В голове у меня что-то повернулось, одна мания вдруг
сменилась другой. Я больше не мечтал об Америке, я увидел нас с Ивонной в
маленьком провинциальном городке, до странности напоминающем Байонну. И
будто мы живем на улице Тьера и летом по вечерам гуляем около городского
театра или вдоль аллей в Буффле. Ивонна берет меня за руку, и мы смотрим
на играющих в теннис. А в воскресенье после обеда, нагулявшись по городу,
сидим на скамейке в парке возле бюста Леона Бонна [французский художник
(1833-1922), уроженец г.Байонна]. Байонна, город покоя и тишины после
стольких лет тревоги. Байонна...
"Святой Розе". Наверное, именно эта ночь значилась в праздничной программе
сезона как "блистающая". Кажется, так и написано: "Блистающая ночь".
Внезапно на головы и на плечи сыпалось пригоршнями конфетти.
опять сидели Фоссорье, Ролан-Мишели, брюнетка, глава игроков в гольф и обе
загорелые блондинки. Как будто они так и сидели здесь целый месяц.
Изменилась только прическа у Фоссорье: одна блестящая волна возвышалась
короной надо лбом, а за ней другая вздымалась к затылку, а дальше к шее
низвергался блестящий каскад завитков. Нет, мне это не приснилось. Вот они
встают и направляются к танцплощадке. Оркестр играет медленный танец. Они
теряются среди других танцующих и облаков конфетти. Все кружится,
вертится, вьется и в моих воспоминаниях рассыпается в пыль.
Пулли.
без особой надежды.
перед ним каждый вечер! Вот если бы я показал ему фотографию, то он,
конечно, узнал бы ее. Всегда нужно носить с собой фотографию любимой.
Хендрикса.
чуть не плакал. Он взял меня за руку.
узнал восточную витиеватость, с которой говорили на обязательном
французском в высшем обществе Каира и Александрии.
пробираемся между танцующими. Оркестр играет все тот же танец. Конфетти
сыплется непрерывно, от него рябит в глазах. Все вокруг смеются и
движутся. Я налетаю на Фоссорье. Одна из блондинок, Мэг Девилье, бросается
мне на шею:
Наконец мне удается вырваться. Мы с Пулли встречаемся на лестнице. Наши
волосы и пиджаки усыпаны конфетти.
Марки "Симка Шамборд". Он церемонно открывает передо мной дверцу:
тридцати километров в час. Он оборачивается ко мне:
наконец. - Увы...
огни Верье, на темные дома бульвара Карабасель над нами. Сощурившись,
пытаюсь разглядеть ползущий фуникулер. И не могу. Мы отъехали слишком
далеко.
сторону горного хребта, освещенного луной.
было его утешить. К тому же он ведь меня старше.
Ивонны. Пулли вел так, словно привык к английскому левостороннему
движению, но, по счастью, никакого движения, то есть, я хотел сказать,
машин, не было.
пустынному залу ожидания. Пулли даже не пришлось покупать билета для
провожающих. Чемоданы остались на том же месте.
тишине, теплом воздухе, свете фонарей было что-то тропическое.
Рамлехе...
Кажется, у меня вышло несколько залихватских колечек.
Хендриксом? - спокойно спросил я.
утешать и подбадривать, но он молчал. Лоб у него сморщился. На висках
выступил пот. Он посмотрел на часы. Две минуты первого.
У вас еще вся жизнь впереди... Мужайтесь. - Он посмотрел по сторонам - не
идет ли поезд.
Египет...
ставил в тамбур. Один. Другой. Третий.
перетрудил руку, когда поднял его и втолкнул в вагон в каком-то
исступлении.
улыбнулся мне:
тронулся. Вдруг Пулли заметил, что мы забыли у скамейки один чемодан. Он
схватил его и побежал за поездом. Но наконец остановился, задыхаясь, и
беспомощно развел руками. Он стоял на перроне при свете фонарей по стойке
"смирно" с чемоданом в руке. И все уменьшался, уменьшался... Верный мой
часовой... Оловянный солдатик...



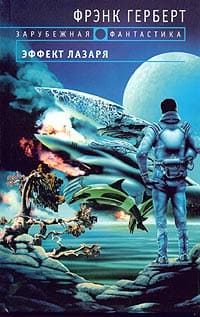


 Мичурин Артем
Мичурин Артем Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Самойлова Елена
Самойлова Елена Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Якубенко Николай
Якубенко Николай