Иван Василенко
Волшебные очки
ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ
Я хожу по улицам Градобельска и считаю церкви. За три дня насчитал тридцать шесть. А жителей в городе не больше сорока тысяч. Интересно, чем они занимаются? Неужели только тем, что ходят по церквам? Чаще всех тут бросаются в глаза попы и монахи. Ими хоть пруд пруди. И очень много учащихся. В таком маленьком городке есть и мужская гимназия, и две женские, и духовная семинария, и реальное училище, и учительская семинария, и женское епархиальное училище. А возглавляются они старейшим в России учительским институтом. Чтобы стать его воспитанником, я и приехал в этот уездный городок с уютными полутораэтажными домами и огромными раскидистыми тополями по обеим сторонам немощеных улиц.
Поселился я в том самом доме и в той самой комнате, где раньше жил мой брат Витя. К этому времени он уже окончил институт и уехал учительствовать в большую станицу на Дону. Из окна я вижу, как по улице цепочкой бредут запыленные богомольцы в домотканых свитках, в лаптях, с котомками за спинами, с посохами в руках. Пройдет одна цепочка, а через десять— пятнадцать минут уже тянется другая. И так весь день.
В городе два монастыря — мужской и женский. В церкви мужского стоит рака [Рака — ларец для хранения останков «святых».] с «нетленными мощами» святого Иосафата. Вот к ним-то и стекаются на поклонение эти люди из разных мест необъятной России.
— Антонина Феофиловна, а что их тянет сюда? — спросил я однажды свою квартирную хозяйку, женщину не первой молодости, но еще бодрую и подвижную.
— Как что? Одни много нагрешили — вот и идут грехи замаливать. Другие сильно болели и дали обет отправиться к святым местам, ежели бог вернет здоровье. На третьих священник эпитимию наложил — тоже, значит, за грехи. А больше — так просто, из любви к господу богу,
— И все пешком?
— Пешком, конечно. Иные так разотрут ноги, что уже и ступить на них не могут.
— Значит, богу молятся и руками и ногами?
— А ну вас! — отмахнулась хозяйка. — Богохульник вы.
Антонина Феофиловна родом из Севастополя. О своем родном городе она рассказывает каждый день и каждый день удивляется: «Понимаете, там деревья растут прямо из камня! Вот чудо какое!»
Болтовня ее отвлекает меня от занятий, а между тем я и приехал сюда за неделю до экзаменов, чтобы никто не мешал мне читать конспекты.
Отвлекает мое внимание и колокольный звон. Когда зазвонят во всех церквах к обедне или к вечерне, то в городе стоит сплошной гул, в котором с трудом отличаешь густой бас собора, баритон мужского монастыря и дискант женского.
Да еще отвлекает меня солдатское пение, напоминая о начавшейся войне с Германией и Австро-Венгрией. Идя на учение или возвращаясь с учения, солдаты бьют сапогами по песчаной мостовой и с вымученной бодростью горланят:
Соловей, соловей, пташечка!
Канареечка жалобно поет!
Раз-два! Раз-два!
Горе не беда!
Канареечка жалобно поет!
Я прижимал ладони к ушам и мчался по страницам конспектов сквозь войны Пуническую и Троянскую, Столетнюю и Тридцатилетнюю, мимо Ахилла и Патрокла, Ганнибала и Филиппа V, Юлия Цезаря и Александра Македонского. Мчался, как мчится курьерский поезд сквозь ливни с грозой и туманы.
Однажды, когда я вот так сидел с зажатыми ушами, в комнату вошел смуглолицый, ладно скроенный человек лет двадцати семи, в институтской форме, с фанерным чемоданом в руке. Засунув чемодан под кровать, он в упор оглядел меня черными жгучими глазами и отрывисто спросил:
— Мимоходенко? Дмитрий?
— Да. А вы Заприводенко? Роман?
— Допустим. Но как вы узнали? Здесь ведь три кровати. Третью тоже институтец занимает. Так, может, я не Заприводенко, а Диссель Аркадий?
— Вам в кожу угольная пыль въелась. А брат говорил, что Заприводенко на каникулах уезжает в Донбасс и там работает в шахте забойщиком. Диссель же разъезжает на каникулах по разным городам как агент торгового дома «Галстуки и подтяжки». Откуда у Дисселя угольная пыль возьмется?
— Гм… Вы наблюдательны. Что ж, будем знакомы. — Он протянул мне руку. Рука была шершавая, мозолистая— настоящая рабочая рука. — Виктор прислал мне письмо, просит помочь вам. Я потому и вернулся немного раньше. Чего больше опасаетесь?
Я подумал и нерешительно сказал:
— Не знаю. У меня в голове сумбур. Все смешалось: пифагорова теорема, африканские джунгли, Юлий Цезарь.
— Значит, великий полководец натянул пифагоровы штаны и отправился в африканские джунгли? — Он засмеялся, и суровое лицо его неожиданно приняло ребяческое выражение. — Ну, пока Цезарь гоняется за тиграми и ловит на удочку крокодилов, обсудим с вами первоочередной вопрос. А первоочередной — это письменное сочинение. С него ведь начинается экзамен. Как вы думаете, какая будет тема?
— Да как же я могу знать?! — удивился я.
— Тему присылают из Харьковского учебного округа в запечатанном сургучом конверте. Конверт вскрывается за пять минут до начала экзамена. Ясно, ни один черт заранее узнать не может. Но головы-то у нас есть на плечах? Давайте рассуждать. Сейчас война. Чего хочет правительство от населения? Патриотического угара. Значит, и тема будет какая-то военная. Льва Толстого предают анафеме во всех церквах, но в программе вступительных экзаменов «Война и мир» есть? Есть. Война там описана народная? Народная. Дураки бы сидели в учебном округе, если бы в дни войны не дали тему из «Войны и мира». Другое дело, что это шарлатанство. Но разве вся царская политика не есть политика шулеров?
— Что именно вы называете шулерством? — спросил я с живейшим интересом следя, как вспыхивает в его глазах гневный огонек.
— А то, что разбойничью войну они хотят выдать за народную. Сто лет назад народ не надо было поднимать на войну—народ сам шел против иноземного завоевателя. У кого не было ружья, тот брал в руки вилы или дубину. А теперь народ на войну насильно гонят, ибо народу эта война нужна, как собаке пятая нога. Паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат. Но мы с вами отвлеклись. Вот что я советую: бросьте всякие джунгли и теоремы, а перечитайте лучше «Войну и мир». Правда, за оставшиеся два дня все тома прочитать невозможно, но я вам принесу довольно подробное изложение романа. Обыкновенно после сочинения половина экзаменующихся едет домой. Понимаете, как важно проскочить первый экзамен.
— Понимаю. Очень, очень вам благодарен, — с чувством сказал я.
— А, что там! — отмахнулся он. — Пройдемте-ка вместе за этой книгой. Вам надо проветрить голову. Книжка у третьекурсника Воскресенского.
Мы вышли на улицу. Незадолго перед этим прошел сильный дождь, но грязи нигде не было.
— Городскому голове повезло, — усмехнулся Роман. — Тут везде под ногами песок, так что о мостовых можно и не заботиться. Замостили лет пятьдесят назад кусок главной улицы — и ладно.
— Вы — замечательный человек, — не вытерпел я, чтобы не высказать своего уважения, возникшего у меня к Роману в первые же минуты нашего знакомства. — И брат о вас такого же мнения.
— Я? Замечательный? — Он недоуменно посмотрел на меня. — Это чем же? Вот Виктор, брат ваш, действительно редкостный экземпляр. Мы поступили в институт одновременно. Но он уже кончил, а нам, кто с ним начинал, еще год учиться. Шутка ли, перемахнул через один курс!
— И вы б, наверно, перемахнули, если б не работали на каникулах в шахтах.
— Скажите лучше—если б не сидел над книгами, которые ни в какие наши институтские программы не лезут.
— Что ж это за книги? — не скрывая любопытства, спросил я.
— Есть такие, — неопределенно ответил он. — В другой раз поговорим. А вы знаете, кто ваши соперники и сколько их?
— Знаю, но не очень точно. Кажется, это все больше сельские учителя.
— Да, учителя, которые уже успели обзавестись и своим домиком, и женой, и даже коровенкой. А в институт они стремятся потому, что хочется иметь не домик, а дом, и не в деревне, а в городе. Ну и прочие блага. Только редко кому из таких удается выдержать экзамен. Побеждают на конкурсе больше молодые и необросшие хозяйством. Зато терпение у владельцев коровенок неиссякаемое: провалился раз, на другой год опять приезжает. Провалился второй раз, снова принимается зубрить по затрепанным уже учебникам.
Институтец Воскресенский, здоровяк с рыжей бородкой, удивленно оглядел меня и махнул рукой:
— Провалят. Скажут, в таком худом теле наукам негде помещаться. Заморыш.
— Брось! — прикрикнул на него Роман. — У тебя вот тело жиром обросло, а где они в тебе, эти науки?
Я взял книжку и вернулся на квартиру. Роман, чтоб не мешать мне заниматься, остался у Воскресенского.
СРЫВ
И вот наступил день первого экзамена. Проснулся я засветло и принялся перечитывать (в третий уже раз!) изложение «Войны и мира». Но тут мне пришла в голову мысль: а что, если о патриотизме придется писать по «Бородино» Лермонтова или по пушкинской «Полтаве»? Я уже намеревался раскрыть увесистый однотомник Пушкина, но потом решил: нет, лучше оставить голову свежей. Пойду бродить по городу просто так, без всяких дум.
В комнату заглянула заспанная и еще не причесанная хозяйка.
— Не спите? Волнуетесь? Может, валерьянки дать?
— Не надо валерьянки. Если можно, дайте чаю. Выпью и пойду. Вернусь только после экзамена — либо со щитом, либо на щите.
Через десяток минут на столе уже шумел самовар. Подав его, хозяйка помялась и нерешительно спросила:
— Щит — это по-иностранному Ванько, [В этой местности так называли извозчиков.] что ли?
— Вроде, — ответил я, поперхнувшись от смеха.
— Охота деньги тратить. Сюда от института рукой подать.
Я долго бродил по сонным улицам города и тщетно пытался думать только о зеленых тополях, шумевших над моей головой под свежим утренним ветерком, о белых облаках на блеклом еще небе, о том, кто живет за окнами этих уютных домиков и что им сейчас снится., Нет, не получалось: из головы не шли ни Андрей Болконский, распростертый на Аустерлицком поле и глядящий в бездонное небо, ни Пьер Безухов, переодетый в крестьянский армяк, с тупым кинжалом под платьем, ни обаятельная Наташа, танцующая на своем первом балу, ни Кутузов, самый мудрый и самый человечный полководец из всех, каких знала вся история войн.
Отвлекшись от своих дум, я поймал себя на том, что стою у высокого каменного забора перед входом в институтский парк. В смущении посмотрел по сторонам: не видит ли кто, как я по-мальчишески приперся к институту за целых два часа до начала экзамена. Нет, поблизости не было никого. Я не выдержал и заглянул в раскрытую калитку. Батюшки! Весь парк был уже полон экзаменующимися. Одни сидели на зеленых садовых скамьях, другие стояли группами и что-то обсуждали, третьи в задумчивости бродили по аллеям. Здесь были и люди лишь немногим старше меня, и бородатые дяди. Но на всех на них был тот специфический отпечаток, по которому я сразу узнавал учителей сельской школы.
Я подошел к одному из самых молодых и спросил:
— Вы какой раз держите?
Он беспечно ответил:
— Да я только второй.
— Ну, как? О чем больше спрашивают? На что нажимают?
— Не могу вам сказать, — засмеялся он, — в прошлом году меня вывесили сейчас же после сочинения.
«Вывесить» — значит, как я потом узнал, повесить в парке, у входа в институт, список недопущенных к дальнейшим экзаменам.
Еще один спрошенный мною ответил покровительственно:
— Третий раз приезжаю, друже, третий.
— На чем же вы срезались?
— На построении. — Заметив мое недоумение, он объяснил: — Понимаешь, друже, геометрических задач на построение вообще не дают на экзаменах, хоть в академию держи. Почему? Потому, что для решения таких задач нужна фантазия, а этот дар природа не каждому отпускает. Ну, а здесь задача на построение дается каждому. Раз ты по окончании института получаешь право преподавать и математику, значит, умей решать задачи и на построение, а нет у тебя, юноша, фантазии, так и не езжай сюда, сиди дома, не рыпайся. Понятно?
Он был старше меня самое большее на три года, и это покровительственное «юноша» меня разозлило:
— Так зачем же вы «рыпаетесь», раз у вас нет фантазии?
Он не обиделся:
— А вдруг проскочу. Всякое на свете бывает.






 Никитин Юрий
Никитин Юрий Березин Федор
Березин Федор Корнев Павел
Корнев Павел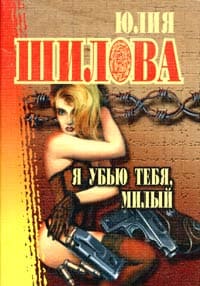 Шилова Юлия
Шилова Юлия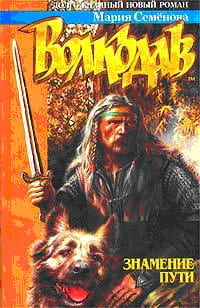 Семенова Мария
Семенова Мария Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей