— Не могу, ваше величество.
— Не можете?!
— Да, это невозможно. Я навсегда бы потерял душевный покой, всякое уважение к себе, если бы ради положения или богатства изменил вере своих предков.
— Вы с ума сошли, мой милый! С одной стороны все, чего только может желать человек, а что с другой?
— Моя честь.
— А разве принять религию короля значит поступить бесчестно?
— С моей стороны было бы подло принять религию, в которую я не верю, соблюдая только выгоды.
— Так уверуйте.
— Увы, ваше величество, насилие плохо уживается с верой. Она должна сама снизойти на человека, а не он идти к ней.
— Право, отец мой, — проговорил Людовик с горькой усмешкой, обращаясь к своему духовнику-иезуиту, — мне придется набрать кадет из вашей семинарии, так как мои офицеры оказываются казуистами и теологами. Итак, в последний раз, вы отказываетесь исполнить мое требование?
— О, ваше величество…
Де Катина сделал шаг вперед, с протянутыми руками, со слезами на глазах.
Но король остановил его жестом.
— Мне не нужно никаких уверений, — жестко проговорил он. — Я сужу человека по его поступкам. Отрекаетесь вы или нет?
— Не могу, ваше величество.
— Видите, — сказал Людовик, снова оборачиваясь к иезуиту. — Это не так легко, как казалось.
— Действительно, этот человек упрям, но другие будут уступчивее.
Король отрицательно покачал головой.
— Хотел бы я знать, как поступить? — сказал он. — Мадам, я знаю, вы всегда даете мне самые лучшие советы. Вы слышали все, что говорилось здесь. Что вы посоветуете?
Она продолжала сидеть, устремив глаза на вышивание, но голос ее был тверд и ясен, когда она ответила:
— Вы сами сказали, что вы старший сын церкви. Если и этот покинет ее, то кто будет исполнять ее веления? И в том, что говорит святой аббат, есть правда. Вы рискуете погубить свою душу, щадя эту греховную ересь. Она растет и процветает, и если не вырвать ее с корнем теперь, то плевелы могут заглушить пшеницу.
— В настоящее время, — подтвердил Боссюэт, — во Франции есть целые области, где, путешествуя весь день, вы не встретите ни одного костела и где все обитатели, от вельмож до крестьян, принадлежат к этой проклятой ереси. Вот, например, в Севеннах, где народ так же дик и суров, как его родные горы. Да сохранит бог наших отцов церкви, уговаривающих тамошних жителей бросить их заблуждения.
— Кого мне послать на столь опасное дело? — спросил Людовик.
Аббат дю Шайла упал на колени, простирая к королю свои обезображенные руки.
— Меня, государь, меня! — кричал он. — Я никогда не просил у вас никаких милостей и не буду просить их впредь. Но я тот человек, которому сам бог поручает сломить упорство этих людей. Пошлите меня с проповедью истинной веры к жителям Севенн.
— Боже, помоги им! — пробормотал Людовик, глядя со смешанным чувством страха и отвращения на изнуренное лицо и свирепые глаза фанатика. — Очень хорошо, аббат, — проговорил он вслух, — вы отправитесь в Севенны.
Может быть, на одно мгновение сурового аббата словно охватило предчувствие того ужасного утра, когда он будет прятаться в углу горящего дома от направленных на него кинжалов. Он закрыл лицо руками, и инстинктивная дрожь пробежала по изможденному телу аскета. Но он сейчас же встал с колен и, сложив смиренно руки, принял прежнюю спокойную позу. Людовик взял со стола перо и пододвинул к себе бумагу.
— Итак, все вы даете мне один и тот же совет, — закончил он, — вы, епископ, вы, отец мой, вы, мадам, и вы, Лувуа. Ну, если в результате этого получится зло, да падет оно не на меня одного. Но что это?
Де Катина вдруг выступил вперед, протянув руку. Его горячая, порывистая натура внезапно перешла границы осторожности. Перед глазами словно промелькнула бесконечная вереница мужчин, женщин и детей одной с ним веры. Все они не могли защитить себя ни единым словом, ни единым жестом, и теперь все смотрели на него, как на единственного защитника и спасителя. Пока все шло гладко в жизни, он мало думал о подобных вопросах, но теперь, когда надвигалась опасность и была затронута более глубокая сторона его натуры, он почувствовал, как мало значили даже сама жизнь и личное счастье в сравнении с этой великой вечной правдой…
— Не подписывайте этой бумаги, ваше величество! — крикнул он. — Вы еще доживете до того времени, когда будете жалеть, что у вас не отсохла рука, прежде чем она взялась за это перо. Я знаю это, государь; я уверен в этом! Вспомните всех этих беспомощных людей — маленьких детей, молодых девушек, стариков и слабых. Их вера — они сами. Это равносильно тому, чтобы требовать от листьев переменить сучья, на которых они растут. Они не могут изменить верования. Самое большее, на что вы еще могли рассчитывать, — это обратить их из честных людей в лицемеров. Но к чему вам это? Они почитают вас. Они любят вас. Никому не делают вреда. Гордятся, служа в ваших армиях и сражаясь за вас. Заклинаю вас, государь, именем всего для вас святого, хорошенько подумать, прежде чем подписать приказ, приносящий несчастье и отчаяние сотням тысяч ваших верноподданных!
На одно мгновение король поколебался, слушая короткие, отрывистые мольбы молодого воина, но выражение лица его снова ожесточилось, когда он вспомнил, как все его личные просьбы не могли подействовать на этого молодого придворного щеголя.
— Религия французского короля должна быть религией Франции, — произнес он, — и если мои собственные гвардейцы противятся мне в этом вопросе, я принужден найти других, более преданных. Вакансия майора мушкетеров должна быть отдана капитану де Бельмон, Лувуа.
— Слушаю, ваше величество.
— Вакансию де Катина можно передать лейтенанту Лабадуаер.
— Слушаю, ваше величество.
— А я уже лишен чести служить вам?
— Вы слишком несговорчивы для этого.
Де Катина беспомощно опустил руки, и голова его упала на грудь. Когда он осознал гибель всех надежд и жестокую несправедливость поступка короля, он громко, безнадежно вскрикнул и бросился вон из комнаты. Горячие слезы бессильного гнева текли по его щекам. В таком виде, с растерзанным мундиром, со шляпой на боку, рыдая и жестикулируя, он влетел в конюшню, где Амос Грин спокойно курил трубку, скептически наблюдая уход конюхов за лошадьми.
— Что случилось, черт возьми? — спросил он, вынимая трубку изо рта.
— Эта шпага, — кричал француз, — я не имею более права носить ее! Я сломаю ее!
— Ну, и я также свой нож, если это может помочь вам.
— Прочь и это! — продолжал кричать де Катина, срывая серебряные эполеты.
— Ну, и в этом отношении вы перещеголяли меня, у меня их никогда и не было. Но скажите, в чем дело, нельзя ли помочь вам?
— В Париж! В Париж! — бешено кричал де Катина. — я погиб, но, может быть, еще успею спасти их. Скорее лошадей!
Американец ясно видел, что случилось какая-то неожиданная беда, поэтому он поспешно принялся помогать другу, и с помощью конюхов они оседлали лошадей.
Через пять минут оба уже летели по дороге, а менее чем через час покрытые пеной и еле державшиеся на ногах кони остановились у высокого дома на улице Св. Мартина. Де Катина выпрыгнул из седла и стремительно взбежал по лестнице. Амос Грин следовал за ним своей обычной спокойной походкой.
Старый гугенот и его очаровательная дочь сидели около большого камина; рука Адели покоилась в руке отца. Оба вскочили с места; молодая девушка с криком радости бросилась в объятия своего возлюбленного, а старик схватил руку, протянутую его племянником.
Тут же, у камина, с очень длинной трубкой во рту и кружкой вина, стоявшей рядом с ним на скамье, сидел странного вида человек с седыми волосами и бородой, с большим мясистым красным носом и маленькими серыми глазами, сверкавшими из-под нахмуренных густых бровей. Его худое, совершенно неподвижное лицо было испещрено морщинами, особенно в уголках глаз, откуда они разбегались веерообразно во все стороны. Своим темно-ореховым цветом это лицо напоминало причудливую фигуру на носу корабля, высеченную из грубого дерева. Одет он был в синюю саржевую куртку, в красные штаны, выпачканные на коленях дегтем, чистые серые шерстяные чулки и грубые сапоги с тупыми носками и большими стальными пряжками. Рядом с ним на толстой дубовой трости колыхалась сильно пострадавшая от непогоды шляпа, обшитая серебряным галуном. Седые волосы были собраны назад в короткую, жесткую косу, а на поношенном кожаном поясе болтался нож с медной рукояткой.
Де Катина был слишком занят, чтобы обратить внимание на эту странную личность, но Амос Грин с радостным криком бросился к старику, деревянное лицо которого смягчилось настолько, что во рту обозначились два испачканных табаком клыка. Не вставая с места, незнакомец протянул Грину большую красную руку, величиной и формой напоминавшую добрую лопату.
— Ну, капитан Эфраим, — заговорил Амос по-английски, — вот уж никак не ожидал встретить вас здесь Де Катина, это мой старый друг Эфраим Савэдж, попечению которого я вверен отцом.
— Якорь на подъеме, парень, и люки закрыты, — сказал чужестранец особенным протяжным тоном, унаследованным жителями Новой Англии от своих предков, английских пуритан.
— Когда вы отправляетесь?
— Как только вы ступите на палубу, если провидение пошлет нам благоприятный ветер и прилив… Ну, как ты поживал здесь, Амос?
— Очень хорошо. Мне есть что порассказать вам.
— Надеюсь, ты держался в стороне от всякой папистской чертовщины?
— Да, да, Эфраим. Но что с вами?
Седые волосы встали от ярости дыбом, а маленькие серые глаза засверкали из-под густых бровей.
Амос взглянул туда, куда был устремлен взгляд старика, и увидел, что де Катина сидел, обняв Адель, а она положила ему на плечо голову.
— Ах, если бы я только знал их язык. Видано ли когда-либо подобное зрелище? А с, мой мальчик, как будет по-французски» бесстыдница «?
— Ну, ну, Эфраим. Право, такую картину можно наблюдать и у нас за морями, дурного тут ничего нет.
— Нет, Амос, этого никогда не увидишь в богобоязненной стране.
— Ну, вот. Видел я, как ухаживают в Нью-Йорке.
— Ах, Нью-Йорк. Я говорил не о нем. Я не могу отвечать за Нью-Йорк или Виргинию. К югу от мыса Код или от Ньюгавена нельзя поручиться за людей. Знаю только, что в Бостоне, Салеме или Плимуте сидеть бы ей в смирительном доме, а ему в колодце за гораздо меньшее бесстыдство. Ах!
Он покачал головой и, сдвинув брови, посмотрел на преступную парочку.
Но молодые люди и их старый родитель были слишком заняты своими делами, чтобы думать о пуританине-моряке. Де Катина рассказал им все в отрывистых, горьких словах: и про королевскую несправедливость, и про то, что лишился должности, и про гибель, ожидавшую гугенотов. Адель, с глубоким инстинктом женщины, думала только о своем возлюбленном и обрушившемся на него несчастии, но старый купец испуганно вскочил, как только услышал об отмене эдикта, и, дрожа, с изумлением оглядывался вокруг.
— Что мне делать? — крикнул он. — Что мне делать? Я слишком стар начинать жизнь снова.
— Не бойся, дядя, — ласково проговорил де Катина. — Есть другие страны, кроме Франции.
— Но не для меня. Нет, нет; я слишком стар. Боже, тяжела твоя десница на рабах твоих. Вот изливается чаша бедствий, и низвергается святилище твое Ах, что мне делать, куда обратиться? — В волнении он ломал себе руки
— Что такое случилось, Амос? — спросил моряк — Хотя я ничего не понимаю из его лопотанья, но вижу, что он выкидывает сигнал бедствия
— Он и его родные должны покинуть свою страну, Эфраим
— А почему?
— Они протестанты, а король хочет уничтожить их веру
В одно мгновение Эфраим Савэдж очутился на другом конце комнаты и сжал худую руку старого купца в своем громадном узловатом кулаке В этом сильном пожатии и в выражении сурового лица было столько братской симпатии, что никакие слова не могли бы более ободрить старика
— Как? — спросил он, оглядываясь через плечо — Передай этому человеку, что мы поможем Скажи ему, что у нас такая страна, которой он подойдет, как втулка к бочке Скажи ему, что у нас все религии свободны, а католиков нет ближе, чем в Балтиморе да у капуцинов в Пенебскоте Скажи ему, что если он желает ехать —» Золотой Жезл» ждет с якорем наготове и полным грузом Говори ему, что хочешь, лишь бы он бежал с нами.
— Тогда мы должны ехать сейчас же! — решительно настаивал де Катина, слушая сердечное приглашение, передаваемое его дяде — Сегодня будет отдан приказ, и завтра уже будет поздно



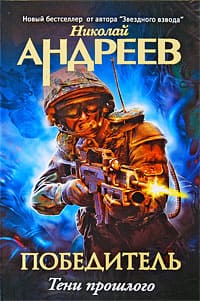
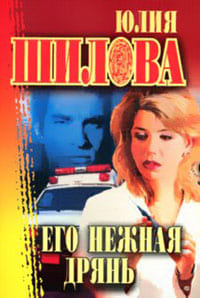

 Посняков Андрей
Посняков Андрей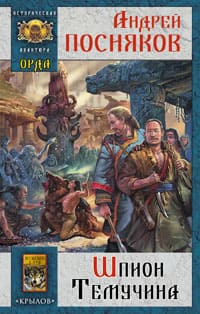 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман